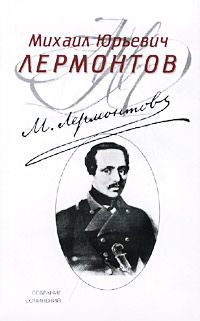Печорину пришлось сидеть наискось противу княгини Веры Дмитревны, сосед его по левую руку был какой-то рыжий господин, увешанный крестами, который ездил к ним в дом только на званые обеды, по правую же сторону Печорина сидела дама лет 30-ти, чрезвычайно свежая и моложавая, в малиновом токе,[60] с перьями, и с гордым видом, потому что она слыла неприступною добродетелью. Из этого мы видим, что Печорин, как хозяин, избрал самое дурное место за столом.
Возле Веры Дмитревны сидела по одну сторону старушка, разряженная, как кукла, с седыми бровями и черными пуклями, по другую дипломат, длинный и бледный, причесанный à la russe и говоривший по-русски хуже всякого француза. После 2-го блюда разговор начал оживляться.
– Так как вы недавно в Петербурге, – говорил дипломат княгине, – то, вероятно, не успели еще вкусить и постигнуть все прелести здешней жизни. Эти здания, которые с первого взгляда вас только удивляют как всё великое, со временем сделаются для вас бесценны, когда вы вспомните, что здесь развилось и выросло наше просвещение, и когда увидите, что оно в них уживается легко и приятно. Всякий русский должен любить Петербург: здесь всё, что есть лучшего русской молодежи, как бы нарочно собралось, чтоб подать дружескую руку Европе. Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь жизнь, здесь наши надежды…
Так высокопарно и мудрено говорил худощавый дипломат, который имел претензию быть великим патриотом. Кн<ягиня> улыбнулась и отвечала рассеянно:
– Может быть, со временем я полюблю и Петербург, но мы, женщины, так легко предаемся привычкам сердца и так мало думаем, к сожалению, о всеобщем просвещении, о славе государства! Я люблю Москву. С воспоминанием об ней связана память о таком счастливом времени! А здесь, здесь всё так холодно, так мертво… О, это не мое мнение; это мнение здешних жителей. – Говорят, что въехавши раз в петербургскую заставу, люди меняются совершенно.
Эти слова она сказала, улыбаясь дипломату и взглянув на Печорина.
Дипломат взбеленился:
– Какие ужасные клеветы про наш милый город, – воскликнул он, – а всё это старая сплетница Москва, которая из зависти клевещет на молодую свою соперницу.
При слове «старая сплетница» разряженная старушка затрясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржею.
– Чтоб решить наш спор, – продолжал дипломат, – выберемте посредника, княгиня: вот хоть Григория Александровича, он очень прилежно слушал наш разговор. Как вы думаете об этом? Monsieur Печорин, скажите по совести и не принесите меня в жертву учтивости. Вы одобряете мой выбор, княгиня?
– Вы выбрали судью довольно строгого, – отвечала она.
– Как быть, наш брат всегда наблюдает свои выгоды, – возразил дипломат с самодовольной улыбкою. – Monsieur Печорин, извольте же решить.
– Мне очень жаль, – сказал Печорин, – что вы ошиблись в своем выборе. Из всего вашего спора я слышал только то, что сказала княгиня.
Лицо дипломата вытянулось.
– Однако ж, – сказал он, – Москве или Петербургу отдадите вы преимущество?
– Москва моя родина, – отвечал Печорин, стараясь отделаться.
– Однако ж которая?.. – дипломат настаивал с упорством.
– Я думаю, – прервал его Печорин, – что ни здания, ни просвещение, ни старина не имеют влияния на счастие и веселость. А меняются люди за петербургской заставой и за московским шлагбаумом потому, что если б люди не менялись, было бы очень скучно.
– После такого решения, княгиня, – сказал дипломат, – я уступаю свое дипломатическое звание господину Печорину. Он увернулся от решительного ответа, как Талейран или Меттерних.[61]
– Григорий Александрович, – возразила княгиня, – не увлекается страстью или пристрастием, он следует одному холодному рассудку.
– Это правда, – отвечал Печорин, – я теперь стал взвешивать слова свои и рассчитывать поступки, следуя примеру других. Когда я увлекался чувством и воображением, надо мною смеялись и пользовались моим простосердечием, но кто же в своей жизни не делал глупостей! И кто не раскаивался! Теперь по чести я готов пожертвовать самою чистейшею, самою воздушной любовью для 3 т<ысяч> душ с винокуренным заводом и для какого-нибудь графского герба на дверцах кареты! Надобно пользоваться случаем, такие вещи не падают с неба! Не правда ли? – Этот неожиданный вопрос был сделан даме в малиновом берете.
Молчаливая добродетель пробудилась при этом неожиданном вопросе, и страусовые перья заколышались на берете. Она не могла тотчас ответить, потому что ее невинные зубки жевали кусок рябчика с самым добродетельным старанием: все с нетерпением молча ожидали ее ответа. Наконец она открыла уста и важно молвила:
– Ко мне ли ваш вопрос относится?
– Если вы позволите, – отвечал Печорин.
– Не хотите ли вы разделить со мною вашу роль посредника и судьи?
– Я б желал вам передать ее совсем.
– Ах, избавьте!
В эту минуту ей подали какое-то жирное блюдо, она положила себе на тарелку и продолжала:
– Вот, адресуйтесь к княгине, она, я думаю, гораздо лучше может судить о любви и об графском или о княжеском титуле.
– Я бы желал слышать ваше мнение, – сказал Печорин, – и решился победить вашу скромность упрямством.
– Вы не первые, и вам это не удастся, – сказала она с презрительной улыбкой. – Притом я не имею никакого мнения о любви.
– Помилуйте! В ваши лета не иметь никакого мнения о таком важном предмете для всякой женщины.
Добродетель обиделась,
– То есть, я слишком стара, – воскликнула она покраснев.
– Напротив, я хотел сказать, что вы еще так молоды.
– Слава богу, я уж не ребенок… вы оправдались очень неудачно.
– Что делать! – я вижу, что увеличил единицею несметное число несчастных, которые вам напрасно стараются понравиться…
Она от него отвернулась, а он чуть не засмеялся вслух.
– Кто эта дама? – шепотом спросил у него рыжий господин с крестами.
– Баронесса Штраль,[62] – отвечал Печорин.
– Аа! – сделал рыжий господин.
– Вы, конечно, об ней много слыхали?
– Нет-с, ничего формально.
– Она уморила двух мужей, – продолжал Печорин, – теперь за третьим, который верно ее переживет.
– Ого! – сказал рыжий господин и продолжал уписывать соус, унизанный трюфелями.
Таким образом разговор прекратился, но дипломат взял на себя труд возобновить его.
– Если вы любите искусства, – сказал он, обращаясь к княгине, – то я могу вам сказать весьма приятную новость, картина Брюлова: «Последний день Помпеи» едет в Петербург.[63] Про нее кричала вся Италия, французы ее разбранили. Теперь любопытно знать, куда склонится русская публика, на сторону истинного вкуса или на сторону моды.
Княгиня ничего не отвечала, она была в рассеянноссти – глаза ее бродили без цели вдоль по стенам комнаты, и слово «картина» только заставило их остановиться на изображении какой-то испанской сцены, висевшем противу нее. Это была старинная картина, довольно посредственная, но получившая ценность оттого, что краски ее полиняли и лак растрескался. На ней были изображены три фигуры: старый и седой мужчина, сидя на бархатных креслах, обнимал одною рукою молодую женщину, в другой держал он бокал с вином. Он приближал свои румяные губы к нежной щеке этой женщины и проливал вино ей на платье. Она, как бы нехотя повинуясь его грубым ласкам, перегнувшись через ручку кресел и облокотясь на его плечо, отворачивалась в сторону, прижимая палец к устам и устремив глаза на полуотворенную дверь, из-за которой во мраке сверкали два яркие глаза и кинжал.
Княгиня несколько минут со вниманием смотрела на эту картину и наконец попросила дипломата объяснить ее содержание.
Дипломат вынул из-за галстуха лорнет, прищурился, наводил его в разных направлениях на темный холст и заключил тем, что это должна быть копия с Рембранта или Мюрилла.
– Впрочем, – прибавил он, – хозяин ее должен лучше знать, что она изображает.
– Я не хочу вторично затруднять Григория Александровича разрешениями вопросов, – сказала Вера Дмитриевна и опять устремила глаза на картину.
– Сюжет ее очень прост, – сказал Печорин, не дожидаясь, чтобы его просили, – здесь изображена женщина, которая оставила и обманула любовника для того, чтобы удобнее обманывать богатого и глупого старика. В эту минуту она, кажется, что-то у него выпрашивает и удерживает бешенство любовника ложными обещаниями. Когда она выманит искусственным поцелуем всё, что ей хочется, она сама откроет дверь и будет хладнокровною свидетельницею убийства.
– Ах, это ужасно! – воскликнула княгиня.
– Может быть, я ошибаюсь, дав такой смысл этому изображению, – продолжал Печорин, – мое истолкование совершенно произвольное.