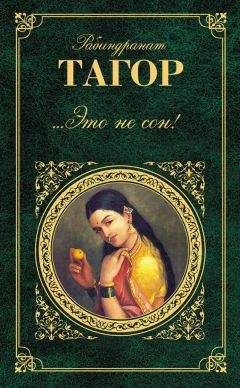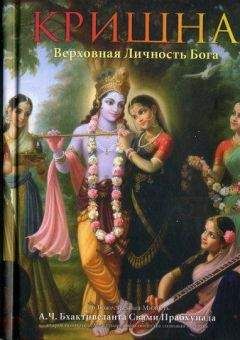* * *
Приказ падишахом дан —
И войска привели Афра Сахиб Хан, Музаффар Хан,
Мухаммед Амин Хан,
А с ними раджа Гопал Синг Бхадаурия,
Удаит Синг Бундела.
Окружили моголы Гурудаспур.
Защищает крепость сикхов отряд,
Бонда Синг – их сардар.
А в крепость нельзя еду пронести,
Отрезаны все пути.
Только ядра пушек
Через стену летят,
Все небо от света факелов
Кроваво алеет во мраке.
Истощился запас ячменя, пшеницы,
Ни зернышка, ни крупицы;
Не хватает дров;
С голоду мясо сырое едят,
Даже срезая с бедер своих,
Кору и зелень побегов толкут,
Из них лепешки пекут.
Восемь месяцев длились муки,
Наконец попала моголам в руки
Крепость Гурудаспур.
Место казней стало болотом крови,
Пленники перед смертью кричат:
«Славься, гуру!»
С утра до вечера
Падают головы сикхов[95], отсечены…
Нехал Сингх – еще отрок.
Прекрасно его молодое лицо,
Изнутри озаренное светом.
В глазах его словно застыла
Утренней песней радость.
Его блестящее юное тело
Создал божественный ваятель
Резцом молнии.
Юноша восемнадцати лет.
Как шалового дерева ветку,
Его в расцвете
Нежно колышет южный ветер.
В теле и душе
Юноши —
Избыток жизни.
Связанный, он стоит,
Все на него глядят
С изумленьем и состраданьем.
Даже меч в руках палача
На мгновенье замер…
Тут прибыл гонец из столицы
С грамотой, что помилован отрок,
Подписано – Саид Абдулла Хан.
Развязали юноше руки.
Он спросил: «За что мне такая милость?»
Сказали, что мать-вдова сообщила,
Что он, ее сын, по вере не сикх,
Что сикхи насильно держали
Его в плену.
Покраснев от стыда и гнева,
Воскликнул юноша громко:
«Не хочу я свободы, купленной ложью,
Только в правде – моя свобода,
Я – сикх!»
Пусть дом моих дней последних
Построен будет из глины,
И зваться он Шамоли будет.
Когда же дом рухнет,
Покажется, будто прилег он уснуть,
Смешается глина с землей,
И дом не поднимет обломки столбов,
Как будто на землю жалуясь небу,
Не даст он средь ребер
Разрушенных стен
Приюта для призраков дней отошедших.
На этой земле я сложу
Основу последнего дома,
И пусть забвение всех страданий,
Прощение всех поношений,
Ошибок, обид, издевательств
Покроется порослью мягкою дурбы.
Пусть рев кровожадный
Всех хищных столетий
В нем смолкнет навеки!
Я буду под кровом той же земли,
Что в детстве мне сыпала каждое утро
В завязанный чадор
Пригоршню цветов – и жасмин, и чампак,
И манго цветы, что еще до весны
По южному ветру
Во мглистую даль уносили
Призывы юности пылкой.
Я с детства люблю
Бенгальских женщин,
Их обликом я зачарован.
Сурьмой в них темнеет родная земля,
Пушится нежная поросль риса,
В их добрых глазах я увидел
Сиянье вечерней зари
На краю небосклона
Над синим далеким лесом.
Земля будет каждое утро
Пред домом моим просыпаться,
Когда прикоснется к ней нежно
Рассвет золотой.
А вечером в сумраке синем
Ей будет светло улыбаться
Бессонный
Весенний месяц.
Земля увлекала меня
В дремучие заросли джхау,
На берег обрывистый Падмы,
Где в дуплах – тысячи птичьих гнезд,
К двуцветным полям горчицы и льна.
К извилистым тропкам в деревню, на берег пруда.
Чаруя мой взор,
Земля зазывала меня
И в полдень холодный
Туда, где у красной дороги
Слетались, воркуя, голуби,
Туда, где по желтой пожухлой траве
Лениво бродили коровы,
Сгоняя хвостом
Назойливых мух со спины,
Туда, где гнездился
На пальме высокой
Отшельник-коршун.
Сегодня на склоне дней
Услышал я зов твой, земля,
Припал к твоему материнскому лону,
Где некогда ты сохраняла Ахалью[96],
Покуда ее не коснулись
Стопы ног смуглых и мягких,
Как дурба-трава[97], и проснулась
Ахалья для новой жизни.
Из книги «Дорога» («Битхика»)
1935
Стихи мои, мой берег одинокий,
В безбрежный океан глядящий молчаливо,
Пускай окатит вас прибой высокий
И жемчугом воздаст спокойный час отлива.
Стихи мои, вам скромность не помеха,
Не блещут пестротою ваши одеянья,
Вы у толпы не сыщете успеха,
И в доме знатока вам не снискать признанья.
Стихи мои, я мысленно рисую
В тишайшей тишине ваш образ одинокий —
Не девушку, но девочку босую,
Сидящую в дверях, поджав худые ноги.
Она себя еще не понимает,
Беспечен взгляд ее, и голос беззаботен,
Над ней на крыльях время пролетает,
И утро пьет росу и переходит в полдень.
А если хочешь знать ее – то просто
В распахнутых дверях постой со мною рядом,
Ей не ответить на твои вопросы
Ни словом вычурным, ни молчаливым
взглядом.
Пока играет ветер волосами,
Она сидит в пыли, качая головою,
И голубыми детскими глазами
Доверчиво глядит на небо голубое.
Шум леса, словно музыка, струится,
Река дымится от полуденного жара,
И над водой неведомая птица,
Качаясь вверх и вниз, поет на ветке джхау,
И под прохладным ветром неустанно
Качается джарул, усыпанный цветами,
И камини цветут благоуханно
И опадают в тень сырыми лепестками,
И запах тулси[98] льется над землею,
И аромат земли в каморке обитает,
И медленно пчела над головою
Кружится и, жужжа, куда-то улетает.
А девочка, она ушла с урока,
Она идет в себя и целый мир находит,
И в этом мире бродит одиноко,
И среди бела дня каракули выводит.
Пускай ее природа окружает,
Как разноцветный сад, светло и откровенно:
Журчит вода, и травы полыхают,
И веет от лугов медовый запах сена.
От добрых глаз я девочку не прячу,
Без хитрости на вас глядит она с порога.
А если вы посмотрите иначе —
Ну что ж – нехороша, худа и босонога.
Вот твой портрет. Порою полуденной
Сидишь в лесу, одетом в полумглу.
Жасмин, в пучок волос твоих вплетенный,
Дыханьем сладким приманил пчелу.
Перед тобой – песок, от солнца белый,
Речной поток струится, обмелелый;
И трепетная тень скользит несмело
По твоему челу.
Твои глаза, исполненные ласки,
Притенены, как лес, где тут и там
Рой мотыльков в неутомимой пляске
Расплескивает краски по цветам.
Весенний ветер, теплотою вея,
Срывает лепестки рукой своею
И этот скромный дар, благоговея,
Кладет к твоим ногам.
Звучит не умолкая птичье пенье
На дереве, у полусонных вод.
Пригоршни света на твои колени
Бросает лучезарный небосвод.
Проходит путник. Песнь его простая
Волнует сердце, горестно рыдая.
Кружится над тобой созвучий стая —
И тихо вдаль плывет.
В твоих глазах я вижу вперемежку
То нежность, то лукавую усмешку.
Я слышу песнь в молчании твоем.
В моей душе смешались свет и тени,
И радости и горе – в вечной смене.
Мы так близки и далеки вдвоем.
Порой меня ты подвергаешь пыткам,
Но, сжалившись, божественным напитком
По капле мне даруешь доброту…
Все, что даешь, ты отберешь, быть может,
В твоем пиру мне сердце голод гложет —
Как от него спасенье обрету?
О моллика! О нежный цвет фальгуна!
Твое вино – в дыханье ночи лунной.
Тебе, скажи, не южный ветер друг?
Богатством он наполнил лес пустынный
И запахов незримой паутиной
Окутал мир, простершийся вокруг.
А я сейчас – как дуновенье стужи.
Твержу мольбу, всегда одну и ту же.
С сухих ветвей осыпалась листва.
Мой взор туманят слезы, закипая;
И доброта мне жертвует скупая
Два-три цветка, раскрывшихся едва.
Все то, о чем душа моя мечтала,
Безжалостная буря разметала.
Пускай навек останусь одинок —
Рукой судьбы мне послана награда:
Два-три цветка всего. Им сердце радо,
Но мало их, чтобы сплести венок.
На нижнем этаже, с утра и допоздна,
Не разгибая стана,
Хлопочешь ты по дому неустанно.
Ты с множеством людей делами сплетена
Узлом незримых нитей —
И не найти хозяйки домовитей.
Но день скрывается за далью золотой,
Путь уступая ночи.
Во все углы вползают мрака клочья.
Ворона спряталась под свод листвы густой,
Даль огласилась карком.
Река блестит в сиянии неярком.
Опутан ближний лес вечерней темнотой;
И в веянье прохлады
Вливается немолчный звон цикады.
Когда умолкнет мир под покрывалом тьмы,
Твои шаги я слышу —
Ты тихо поднимаешься на крышу…
Не знаю, как тебя зовут, – чужие мы.
Но в этот час безмолвный
Гляжу я на тебя, волненьем полный.
Тебе подругою – далекая звезда.
Все узы расторгая,
Стоишь – уже не ты, совсем другая.
Потом спускаешься ты вниз – и, как всегда,
Свет зажигаешь дома.
И снова все привычно и знакомо.