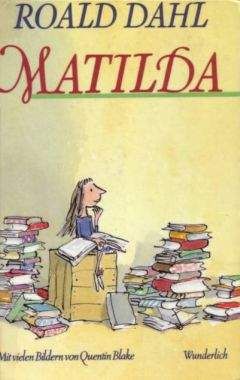И ветреный Париж откликнется на все:
Я знаю — он поймет открытие твое,
Ученый и поэт, — вы трудитесь недаром, —
Париж, где «Grille-d’-Egout» приветствовали с жаром…
Я против воли все готов ему простить
За то, что гениев умеет он любить!
Певец Америки, таинственный и нежный,
С тех пор, как прокричал твой Ворон безнадежный
Однажды полночью унылой: «nеvеrmоrе!»[15]
Тот крик не умолкал в твоей душе; с тех пор
За Вороном твоим, за вестником печали?
Поэты «nеvеrmоrе», как эхо, повторяли;
И сумрачный Бодлэр, тебе по музе брат,
На горестный напев откликнуться был рад;
Зловещей прелестью, как древняя Медуза,
Веселых парижан пугала эта муза.
Зато ее речей неотразимый яд,
Зато ее цветов смертельный аромат
Надолго отравил больное поколенье.
Толпа мечтателей признала в опьяненье
Тебя вождем, Бодлэр… Романтиков былых
Отвага буйная напоминала в них…
А все-таки порой завидуешь их воле;
Живут, работают на безграничном поле
И мыслят, и никто не может запретить,
Что хочется писать, что хочется любить.
Они — безбожники, философы, буддисты,
Ученики Золя, «толстовцы», пессимисты,
Там тысячи кружков, религий, партий, школ,
Там всякий думает, что истину нашел.
Не ведая преград, свободно ищет гений
И новой красоты, и новых откровений.
И человечеству художники свой труд
Во славу Франции дарить не устают.
Открыты все пути: не нужно лицемерить
И лгать перед толпой. Они дерзают верить
В наш прозаичный век, что святы их мечты,
Исканье истины и жажды красоты.
У них в созданиях, у них в душе — свобода:
Привет художникам великого народа!
С такими думами по выставкам брожу,
На тысячи картин, на статуи гляжу.
Чтоб в будничный мирок мы глубже заглянули,
Один, изобразив две медные кастрюли
Да пару луковиц, положенных на столь,
Hoвейший реализм до крайности довел,
А близ него другой, художник идеальный,
Стремится к прелести легенд первоначальной.
В картине сказочный туманный полусвет,
Деревья странные, каких в природе нет.
Назло теориям сухим и позитивным,
Он хочет быть простым, он хочет быть наивным.
А рядом, в золоте распущенных кудрей,
С улыбкой дерзкою Венера наших дней,
Наемница любви — перед толпой раздета,
О Фрины модные, царицы полусвета, —
В ней ваша красота и ваш апофеоз!..
На той же выставке задумчивый Христос —
В скептической толпе, в гостях у Жюль Симона,
Меж современных лиц Парижского салона,
Печально говорит в картине у Бэро
Про вечную любовь, про вечное добро.
В искусстве наших дней ты побеждаешь снова,
О Галилеянин!.. На проповедь Толстого
Сердца откликнулись: повсюду лик Христа —
В картинах, в мраморе. Пленяет красота
Его загадочной, простой и вечной книги:
Исканье жадное неведомых религий —
Опять в душе у всех. В наш скорбный, темный век,
Быть может, вновь к любви вернется человек
Для разрешения великого вопроса
О счастье на земле… На полотне Рошгросса
Твое падение, твой блеск изображен
В предсмертной оргии, о древний Вавилон!
Заря. Уж гости спят. Порой дыханье слышно
Иль бред. Разлитое вино на ткани пышной…
Курильниц гаснущих тяжелый аромат…
С холодным блеском дня багровый луч лампад
Смешался у рабынь на смуглой голой коже.
Вот пьяный жрец уснул с красавицей на ложе.
Усталость мертвая… желаний больше нет…
И эта оргия мучительна, как бред…
Не спит один лишь царь, и в ужасе на троне
Он видит там, вдали, пожар на небосклоне,
Он слышит грозные, тяжелые шаги
Мидийских воинов: «О горе нам!.. Враги!..»
Он молит, он грозит: никто ему не внемлет,
И золотой чертог в роскошной неге дремлет…
Имеющий глаза да видит! Опьянен
Величием Париж, как древний Вавилон,
О пусть войдут враги, прогонят сон похмелья,
С прекрасных тел сорвут цветы и ожерелья,
И разольют вино, и опрокинут стол!
Спи, спи, пока твой час последний не пришел!..
Безумцы, в ужасе проснетесь вы, и верьте —
Вам солнца первый луч подобен будет смерти.
Наш дряхлый век погиб. Заря и меч врагов
Разгонит оргию наложниц и рабов…
Но дух людей — велик, но гений — бесконечен;
Париж, воскреснув вновь, как солнце, будет вечен!
VI. LIBERTÉ, FRATERNITÉ, EGALITÉ[16]
В наш век практический условна даже честь:
В Gil-Blas’е, например, вы можете прочесть
Рекламы каждый день о молодой девице
Иль о скучающей вдове на той странице,
Где о наеме дач вы только что прочли:
«J’ai dix-neuf ans, je suis bien faite et très jolie».[17]
Всем предлагает дар она любви свободной,
Кто заплатить готов ее портнихе модной.
Меж тысячей карет я вижу там, вдали,
На шумной улице идет старик в пыли,
С рекламой на спине, по мостовой горячей.
Он служит для толпы афишею ходячей.
На старческом лице ни мысли, ни души.
Он ходит так всю жизнь за бедные гроши,
Чтобы прочесть о том в блистательной рекламе
Известье важное удобно было даме,
Что можно в «Bon-Marché» купить за пустяки
Для ножек розовых ажурные чулки.
А над красавицей и над живой афишей,
На мраморной доске, над выступом иль нишей,
Я громкие слова читаю: Liberté,
Egalité и — звук пустой! — Fraternité.
На сцене крохотной актер в кафешантане
Кривлялся пред толпой в бессмысленном канкане,
Плешивый, худенький, в истертый фрак одет,
Он хриплым голосом выкрикивал куплет.
Я слышал смех в толпе, но ничего смешного
Не находил в чертах лица его больного…
Бывало, в темный век, когда в России кнут
Свистел над спинами рабов, дворовый шут
Смешил господ и дам, скучающих в беседе
О сплетнях городских, на праздничном обеде:
Такой же раб толпы в наш просвещенный век
В свободном городе — свободный человек!..
Когда, подняв свой меч, склонялся гладиатор
Над раненым бойцом и ждал, чтоб император
Рукою подал знак к убийству, и нога
Стояла на груди упавшего врага,
И крови требовал народ с восторгом диким, —
Ты все же, Древний Рим, был грозным и великим.
Но к этим зрелищам мы не вернемся вновь,
И Боже нас храни пролить людскую кровь:
Нам только нравятся невинные забавы.
Мы не язычники, давно смягчились нравы…
А все-таки шутов мы любим, и у всех
Сегодняшний актер не даром вызвал смех.
В жестокости толпы уж больше нет величья, —
За то соблюдены законы и приличья!
О древний Лувр, под сень безмолвную твою
От шумной улицы я уходить люблю.
Не все ли мне равно — Мадонна иль Венера, —
Но вера в идеал — единственная вера,
От общей гибели оставшаяся нам,
Она — последний Бог, она — последний храм!
К тебе, Милосская богиня, крик народа
Порою долетал: «Да здравствует свобода!»
И марсельезою Париж был опьянен.
За волю всех рабов, за счастье всех племен,
В дыму, под градом пуль, с надеждою во взглядах
Толпа бежала смерть встречать на баррикадах.
Но с ликом мраморным богиня красоты,
Страдающих людей не видя с высоты,
Смотрела молча в даль холодными очами.
Неумолимая! как ты царишь над нами —
Царить во все века ты будешь над людьми.
О, преклони свой взор на гибнущих, пойми,
Как мы страдаем!.. Нет, не видит и не слышит,
И только вечною красой улыбка дышит.
Венера, с гибелью у ног твоих мирюсь,
Когда тебя люблю, когда тебе молюсь,
И в лике мраморном я вечность созерцаю,
Благословляю жизнь и смерть благословляю!..
Но вдруг мои мечты внезапный шум прервал,
И с говором вошла толпа туристов в зал.
Рыжеволосая, худая, в пестром пледе,
Свой красный Бэдекер под мышкой держит леди.
Бог ведает, зачем они сюда пришли.
Чрез горы и моря во все концы земли
Из Англии родной туристов гонит скука.
За двести шиллингов везут агенты Кука
Показывать по всем столичным городам
Им каждый памятник, развалину иль храм.
От этих англичан, кочующих и праздных,
Сидельцев лондонских и леди безобразных, —
Нигде спасенья нет! И здесь у ног твоих,
Киприда вечная, гляжу с тоской на них…
Вы цените красу и гений безграничный