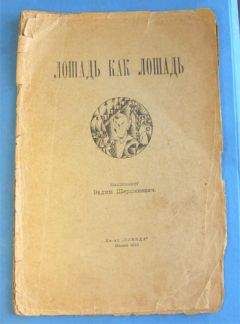<1917>
Не может выбиться
Тонущая лунная баба из глубокого вздоха облаков.
На железной вывеске трясется белорыбица
Под звонкую рябь полицейских свистков.
Зеленый прибой бульвара о рыжий мол Страстного
Разбился, омыв каменные крути церквей.
И здесь луна утонула. Это пузырьки из ее рта больного
— Булькающие круги фонарей.
На рессорах ветра улыбаться бросить
Ржавому ржанью извозчичьих кляч.
Крест колоколен строг, как проседь,
Крестом колоколен перекрестится плач!
И потекут восторженники, как малые дети,
Неправедных в рай за волосы тянуть.
Мое сердце попало в реберные сети
И ушлое счастье обронило путь.
Но во взметы ночи, в сумеречные шишки,
В распустившиеся бутоны золотых куполов,
Мысли, летите, как мошки, бегите как мышки,
Пробирайтесь в широкие щели рассохшихся слов.
С кругами под глазами — колеями грусти,
С сердцем пустым, как дача в октябре, —
Я весь, как финал святых златоустий,
Я молод —
Холод,
Прогуливающийся по заре.
И мой голос громок; его укрепил я, кидая
Понапрасну Богу его Отченаш;
И вот летит на аэро моя молитва большая,
Прочерчивая в небе след, как огромный карандаш.
Аэроплан и молитва это одно и то же!
Обоим дано от груди земной отлетать!
Но, Господи Маленький! Но, Громадный Боже!
Почему им обоим суждено возвращаться вспять?!
<1917>
«За ветром в поле гонялся глупый…»
За ветром в поле гонялся глупый,
За ребра рессор пролетки ловил —
А кто-то солнцем, как будто лупой,
Меня заметил и у моста схватил.
И вот уж счастье. Дым вашей походки,
Пушок шагов я ловить привык.
И мне ваш взгляд чугунен четкий —
На белом лице черный крик.
Извиняюсь, что якорем счастья с разлету
Я за чье-то сердце зацепил на земле.
На подносе улыбки мне, радому моту,
Уже дрожит дней ржавых желе.
Пусть сдвинуты брови оврагов лесистых,
Пусть со лба Страстного капнет бульвар —
Сегодня у всех смешных и плечистых
По улицам бродит курчавый угар.
Подыбливает в двери, путается в шторе,
На жестком распятии окна умирает стук.
Гроздья пены свесились из чаши моря,
Где пароход, как странный фрукт.
Тени меняют облик, как сыщик,
Сквозь краны подъездов толпа растеклась,
И солнце играет на пальцах нищих,
Протянув эти пальцы прохожим в глаз.
Ну, ну!
Ничего, что тону!
Врешь! Еще вылезу закричать: Пропустите!
Неизменный и шипучий, как зубная боль;
Потому что на нежной подошве событий
Моя радость жестка и проста, как мозоль.
<1917>
«Знайте, девушки, повисшие у меня на шее, как на хвосте…»
«Но всё, что тронет, — нас соединяет,
Как бы смычок, который извлекает
Тон лишь единый, две струны задев».
Рильке
Знайте, девушки, повисшие у меня на шее, как на хвосте
Жеребца, мчащегося по миру громоздкими скачками:
Я не люблю целующих меня в темноте,
В камине полумрака вспыхивающих огоньками,
Ведь если все целуются по заведенному обычаю,
Складывая раковины губ, пока
Не выползет влажная улитка языка,
Вас, призываемых к новому от сегодня величию,
По-новому знаменем держит моя рука.
Вы, заламывающие, точно руки, тела свои, как пальцы, хрупкие,
Вы, втискивающие в туннели моих пригоршен вагоны грудей,
Исхрипевшиеся девушки, обронившие, точно листья, юбки,
Неужели же вам мечталось, что вы будете совсем моей?!
Нет! Не надо! Не стоит! Не верь ему!
Распятому сотни раз на крестах девичьих тел!
Он многих, о, многих, грубея, по-зверьему
Собой обессмертил — и сам помертвел.
Но только одной отдавался он, ею вспенённый,
Когда мир вечерел, надевая синие очки,
Только ей, с ним единственной, нет! В нее влюблённый,
Обезнадёженный вдруг, глядел в обуглившиеся зрачки.
Вы, любовницы милые, не притворяйтесь, покорствуя,
Вы, раздетые девушки, раскидавшие тело на диван!
Когда ласка вдруг станет ненужной и черствою,
Не говорите ему, что по-прежнему мил и желанн.
Перестаньте кокетничать, вздыхать, изнывая, и охать, и,
Замечтавшись, не сливайтесь с мутною пленкой ночей!
На расцветшее поле развернувшейся похоти
Выгоняйте проворней табуны страстей!
Мне, запевшему прямо, быть измятым суждено пусть!
Чу! По страшной равнине дней, как прибой,
Надвигаются, катятся в меня, как в пропасть,
Эти оползни девушек, выжатых мной!
В этой жуткой лавине нет лиц и нет имени,
Только платье, да плач, животы, да белье!
Вы, трясущие грудями, как огромным выменем,
Прославляйте, святите Имя Мое!
<1917>
Как антиквар седой
Старинной хрупкой вазой,
Гордился целый год тобой,
Любовь моя;
Разглядывая твои полночи, ласки, фразы,
Как антиквар следит изгибы и края.
Я знаю: у других такие ж вазы были,
Неподлинность их вмиг не я ли открывал?
И как на старине налет священной пыли,
Так над твоей душой твой серый глаз мерцал.
Скупой,
Как Гарпагон, я вскакивал с кровати
Проверить: правда ль я владелец вазы той,
И память, как сундук, чтобы просчитать объятья,
Я часто открывал среди низги ночной.
Но ненависть твоя сквозь нежность проблеснула,
И показалось мне, что взгляд не сер, а хмур,
И вот я нахожу клеймо: «Иванов — Тула»
На вазе из времен Петрарок и Лаур.
18 июня 1918
Свободный час
Истинно говорю вам: года такого не будет!..
Сломлен каменный тополь колокольни святой.
Слышите: гул под землею? Это в гробе российский прадед
Потрясает изгнившей палицей своих костей.
Жизнь бродила старухой знакомой,
Мы играли ее клюкой.
Я луну посвящал любимой,
Приручал я солнце ей.
И веселое солнце — ромашкой,
Лепестки ее наземь лучи.
Как страницы волшебной книжки,
Я листал этот шёпот ночей.
Я транжирил ночи и песни,
Мотовство поцелуев и слез,
И за той, что была всех прекрасней,
Словно пес, устремлялся мой глаз.
Как тигренок свирепый, но близкий,
За прутьями ресниц любовь.
Я радугу, как рыцарь подвязку,
Любимой надевал на рукав.
Было тихо, и это не плохо,
Было скучно мне, но между тем,
Оборвать если крылья у мухи,
Так и то уж гудело, как гром.
А теперь только ярмарка стона,
Как занозы к нам в уши «пли»,
Тихой кажется жизнь капитана,
Что смываем волной с корабля.
Счастлив кажется турок, что на кол
Был посажен султаном. Сидел
Бы всю жизнь на колу да охал,
Но никто никуда бы не гнал.
Казначейство звезд и химеры…
Дурацкий колпак — небосклон,
И осень стреляет в заборы
Красною дробью рябин.
Красный кашель грозы звериной,
И о Боге мяучит кот.
Как свечка в постав пред иконой,
К стенке поставлен поэт.
На кладбищах кресты, это вехи
Заблудившимся в истинах нам.
Выщипывает рука голодухи
С подбородка Поволжья село за селом.
Все мы стали волосатей и проще,
И всё время бредем с похорон.
Красная роза всё чаще
Цветет у виска россиян.
Пчелка свинцовая жалит
Чаще сегодня, чем встарь.
Ничего. Жернов сердца всё перемелет,
Если сердце из камня теперь.
Шёл молиться тебе я, разум,
Подошёл, а уж ты побеждён.
Не хотели ль мы быть паровозом
Всех народов, племен и стран?
Не хотели ль быть локомотивом,
Чтоб вагоны Париж и Берлин?
Оступились мы, видно, словом
Поперхнулись теперь под уклон.
Машинист неповинен. Колеса
В быстроте завертелись с ума.
Что? Славянская робкая раса?
Иль упорство виновно само?
О, великое наше холопство!
О, души мелкорослой галдеж!
Мы бормочем теперь непотребство,
Возжелав произнесть «Отче наш».
Лишь мигают ресницами спицы,
Лишь одно нам: на дно, на дно!
Разломаться тебе, не распеться
Обручальною песней, страна!
Над душой моей переселенца
Проплывает, скривясь, прозвенев
Бубенцом дурацким солнца,
Черный ангел катастроф!
25 сентября 1921