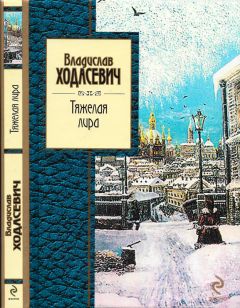ЗА 800 ВЕРСТ («Гор обугленные горбы…»)[175]
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь
Марина Цветаева
Гор обугленные горбы,
Мили — до самого близкого.
Опрокинув розовые столбы,
Закат море обыскивал.
Полосы меди отточенной
Выковал запада горн.
Граниту наносят пощечины
Мокрошлепающие ладони волн.
Облаков сквозные невода,
Умирающая вода.
Туда — Камчатка,
Киты, туманов молочный напор,
Замшевая перчатка
На распяленных пальцах гор.
Туда — зеленеющие пышно
Вулканические острова.
Народ, подкрадывающийся неслышно,
Убивая, говорящий вежливые слова.
Туда — зеленеющие пышно,
Светящиеся духи, протяжный гонг.
Гонконг,
Слоны Сиама.
А в Москве светает.
(Звонят ли в Москве колокола?)
Первого трамвая
Густая
Гудит пчела.
Из переулка такого,
Что знал — века,
Ломовика
Падающая подкова.
Ничего не знаю, какая вы!
(Видел раз в двенадцатом году.)
Переливчатые цвета и вы,
Отраженная в голубом льду.
Поэтому какая у вас комната,
Как вы открываете глаза?
Я бы всё это мог выдумать (гном на то!),
Но этого нельзя…
Ночь. Ветер. Знойный и ночью.
(Летают светящиеся мухи.)
Пляска шаркающих туфель волн.
(Мои глаза электрически сухи.)
Ветер. Прибоя и вой, и вол.
Сейчас поплыву, волной освечен,
Буду клубить под собой межу.
Вал, откатясь, обнажает плечи
Не человеку уже — моржу.
Фыркаю. Камень схватил за спину.
Солоны губы. Давай! Давай!
И выгибают кошачью спину
Волны на каменный каравай.
Может быть, вглубь и торпедой до дна,
Вытянув рук голубой бугшприт,
Чтобы взорвать тот чертог подводный,
Где фосфорический свет зарыт.
Верблюд в песчаном караване, я
Покачиваюсь от ороби:
Под грохотом завоевания
Всплывают голубые проруби.
А вы сейчас пьете чай,
Прищуриваясь на строчки,
И мне — от морей — различать
Маркизетовые цветочки.
Хорошо, что вы есть, что ваш
Голос слышен до океана,
До страны, что живет, жива
По Евангелию Иоанна.
И стихи вам и петь, и вить,
Их за тысячи верст не спрячете!
Мне в ладони мои ловить
Метеоровые их мячики.
Я стою на огне росы,
Я на берег себя причалил…
(Вы станете — ну да, часы! —
Ведь девятый у вас вначале.)
Субтропическая, синяя, жаркая.
Как танцующие слоны,
Шаркают волны.
Волны,
Отпрыгнувшей прочь,
Голубоватый песок.
На мысок
Берег хвост опускает драконий, иглистый —
Шаткий от крена, —
Парус контрабандиста.
Ветер. Прожектор. Сирена.
Дальний Восток. Бухта Улисс
«Я одинок, без близких и друзей…»[176]
Я одинок, без близких и друзей,
Целую очи моего искусства;
Придет толпа — я говорю:
«Глазей!» Придет поэт —
«Товарищ, знаю вкус твой!»
А может быть, стихов из тысячи
Кремневых два бессонное терпенье
Кладет в карниз — простые кирпичи
Собора, загудевшего от пенья.
И голуби свистящий свой полет
Смахнут с крыла и рядом заворкуют,
Ведь сердце обреченное поет,
Не требуя награду никакую.
САМОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ («На Каланчевской пять, квартира три…»)[177]
На Каланчевской пять, квартира три,
Жил человек. Труслив, к тому ж развязен.
На желтом лбу его цвели угри,
Воротничок всегда помят и грязен.
Но полночью пришел к нему Господь,
Он милосерд, иль с неба видно проще, —
И до утра, и до рассвета вплоть
Сияло в комнате, как в снежной роще.
И стало так. Он жил теперь в пустом
Пространстве рокота и вихревого гула,
А по ночам беседовал с Христом
В саду, у склона горного аула.
И раз Христос сказал, сияя весь
(Они тогда к ручью сходили вместе):
«Ошибся я, тебе бы жить не здесь
И не теперь, а лет назад на двести!»
И с Каланчевской пять, квартира три
Поднял его и отослал в былое,
И встретил он румяный свет зари
В избе, в скиту, в лесу у аналоя.
И память старца праведного чтим,
Не ведая, не знающие крылий,
Что вот прошел он спутником твоим,
Что с ним вчера еще мы вместе жили.
ТУМАН («Глухое «у-у» закинуто протяжной…»)[178]
Глухое «у-у» закинуто протяжной
Сиреной невидимки-маяка,
И тяжело своей холстиной влажной
Повис тяжелый парус моряка.
Вершин расплывчатые очертанья,
Долин дымящиеся закрома,
Где спрятаны в скалистые гортани
Печами обогретые дома.
Где женщина, поджаривая рыбу,
Смеется, к гостю повернув лицо,
Где ночь, ворча, приваливает глыбу
Тумана на дощатое крыльцо.
За мглою — мгла! Сквозь острые проколы,
Распластаны на замшевый экран
(Подобие кровоточащих ран!),
Огней разбрызганные ореолы…
ГОЛУБАЯ КНЯЖНА («В отеле, где пьяный джесс…»)[179]
В отеле, где пьяный джесс
Сгибает танцоров в дуги,
Еще говорят прэнсесс
В крахмальных сорочках слуги.
И старенький генерал
(О, как он еще не помер)
Рассказывать про Урал
Стучится в соседний номер.
И пища еще нежна,
И вина сверкают, пенясь.
И маленькая княжна,
Как прежде, играет в теннис.
Но близит уже судьба
Простой и вульгарный финиш,
Когда ты из Чосен-банк
Последнюю сотню вынешь.
И жалко нахмуришь бровь
На радость своих соседок…
К чему голубая кровь
И с Рюриком общий предок?
Для многих теперь стезя
Едва ли сулит удачу.
Мне тоже в Москву нельзя,
Однако же я не плачу!
Но вы — вы ведь так нежны
Для нашей тоски и муки,
У вас, голубой княжны,
Как тонкие стебли — руки.
И львы с твоего герба
Не бросятся на защиту,
Когда отшвырнет судьба
Последнюю карту битой.
И ужас подходит вплоть,
Как браунинг: миг и выстрел…
А впрочем, чего молоть:
Сосед-то — любезный мистер!
«У причалов остроухий пинчер…»[180]
У причалов остроухий пинчер
Водит нынче тоненькую мисс.
Англичаночка, не осрамитесь,
Не для шкуны же папаша вынянчил!
Рыжий боцман выплюнул табак,
Рыжий боцман подмигнул подвахте:
«Этакую ежели на бак,
Ну-ка, малый, выдержишь характер?»
Хохотала праздная корма:
«Не матросу сватать недотрогу!
Глянь-ка, боцман, чертов доберман,
Что ни тумба, поднимает ногу!..»
Лучший виски — уайтхорс виски:
Белая лошадь, по-английски.
ПОЛКОВОЙ ВРАЧ («Умирает ли в тифе лиса…»)[181]
Умирает ли в тифе лиса,
Погибает ли дрозд от простуды?
Не изведает сифилиса
Даже кот, похудевший от блуда!
Вы — шутник. Папироса во рту,
Под большой электрической лампой
Отмечаете люэс, ртуть
И ломаете горлышки ампул.
И на беглую спутанность фраз,
На звенящую просьбу вопроса
Улыбаетесь: «Даже Эразм —
Роттердамский! —
Немного без носу!»
УЗОРЫ ПАМЯТИ («Я пишу рассказы…»)[182]