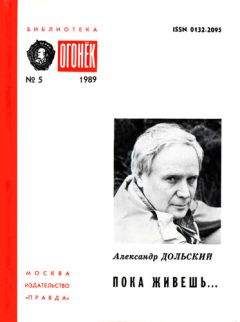21
Меня торопит шустрая Евтерпа.
Ей не по вкусу описанья, рассужденья.
Она фундаментальности не терпит
и любит приблизительность и деньги.
Из обихода несколько словечек возьми
и обороты -- "как бы", "в самом деле",
сосредоточь внимание на теле,
с мировоззреньем избегай большой возни,
придумай неприличную завязку...
Пускай герои матом говорят,
воруют, колются, стреляют и горят.
Продай издателям свою больную сказку.
Найдутся и читатели. По нраву
сегодня многим пошлость и обман.
А я по-старому продолжу свой роман,
классическому подчиняясь праву,
где вера в Бога и неспешность бытия --
основа жизни, фабула моя.
22
. . . . . . . . . . .
23
Мотаясь по Америке, Европе,
Австралии и Ближнему Востоку,
я видел Мир -- лукавый и жестокий,
познал -- за что наказаны Пророки
и почему так долго плыл до Пенелопы
царь Одиссей, хоть хитроумный где-то,
но более удачливый, чем кто-то,
кому такая выпала работа --
изведать тайны, боль и наслажденья Света,
как непрозрачно Истина одета,
как Правда непохожа на предметы
и на понятья, часто в обиходе
звучащие -- на улице, в народе,
как экономика зависит от уклада
семьи, деревни, чистоты наряда,
воинственность -- от пищи стариков,
а войны -- от соседей и оков,
что неизменны с истечением веков.
24
Так продумала тонкости духа Природа,
что за роскошь одних -- кровью, жизнью, мученьем
человечество много веков с увлеченьем
платит, как урожай с огорода,
собирая пригодные к жизни тела
и лишая их права на существованье.
Кодом слов освещает простое закланье,
называя процесс преступленья -- Дела.
И идут параллельные жизни сообществ.
Тьмы, что просят у Бога прощенья
и купившие "в Боги" своё посвященье,
никогда не встречаясь, на Небо не ропщут.
Вся история Мира -- создание мифов
до высот демократий -- от римлян и скифов,
бухгалтерия смерти, насилия свод.
Все ученья пророков, Мессии и Будды --
матерьял для чеканки кровавой посуды
на столах власть имущих господ.
25
До печали, которая и в Книге Книг
не прописана выше -- иначе б сожгла,
я познал этот мир, этот век, этот миг,
эти души и эти тела.
Это скопище мяса в активной возне
в ритмах рока, соитья, стрельбы --
вызывает всё явственней чувство во мне.
Я не здешний. Я всё позабыл.
А теперь вспоминаю. Прекрасных Миров
я виновный и сосланный сын.
Узнаю здесь туманы, цветы и коров,
и плывущий вверху апельсин.
Я не ведал, как тихо мы сердцем поём,
как негромко рыдает оно.
И оставили шрамы на сердце моём
Россия, Любовь и вино.
Ухожу без дорог по траве и золе.
О, мой Бог, замолил я грехи,
потому что оставил на этой Земле
Россию, Любовь и стихи.
26
. . . . . . . . . .
27
Июль прошёлся, как Гоген, простейшим светло изумрудным
по веткам лиственниц, берёз, мазнул сиренью по кустам
и жёлтых лютиков толпу согнал в запущенный и скудный
клочок земли, что для меня не уступает тем местам,
где забавляются игрой с богатством, важностью, тщеславьем
на фоне княжеских усадьб живущие не много лет,
поспешно пишущие жизнь с неубедительным заглавьем.
Моей душе принадлежит лишь Время. Это мой завет.
Ни дерево, ни куст, ни дом, ни часть земли, как ветер
летний,
не может телом, из воды построенным, быть полонён,
присвоен. Свет и цвет -- о Солнце сказочные сплетни.
И только Временем всегда я одурманен, опьянён.
Так много строчек и людей я в этом мире потерял,
что стало мне небезразлично, что совершается во вне
его пределов. И постиг, что Время -- это матерьял,
и из него, как парус, сшита Душа бессмертная во мне.
И вот опять июль в дождях и в зелени, с ума сошедшей.
А я терпимей и грустней с моим свершившимся прошедшим.
1
Я помню, как, настроив свой приёмник
на сорок девять метров, на волну
Америки, я, как святой паломник,
шагал через холодную войну.
Казался Запад нам обетованным раем,
весь в голубых и розовых тонах.
Пришла Свобода. Мы ещё в штанах,
от голода почти не умираем,
но наш родной российский капитал
не адекватен ни Свободе, ни Закону.
Цинично ставит он в своём углу икону,
но власть с бесчестьем крепко повязал.
Безумные политики, артисты,