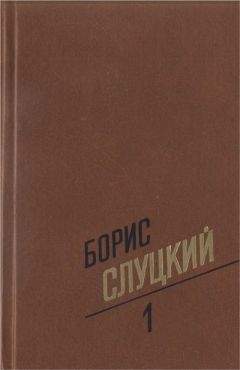1945 ГОД
На что похожи рельсы, взрывом скрученные,
Весь облик смерти, смутный, как гаданье.
И города,
большой войной измученные —
Ее тремя или пятью годами?
Не хочется уподоблять и сравнивать
Развалины, осколки и руины,
А хочется расчищать, разравнивать
И Белоруссию и Украину.
Среди иных годов многозаботных,
Словами и работами заполненных,
Год сорок пятый
навсегда запомнился,
Как год-воскресник
Или год-субботник.
Усталые работали без устали.
Голодные, как сытые, трудились.
И ложкою не проверяя: густо ли? —
Без ропота за пшенный суп садились.
Из всех камней, хрустевших под ногами,
Сперва дворцы, потом дома построили,
А из осколков, певших под ногами,
Отплавили и раскатали
кровли.
На пепелище каждом и пожарище
Разбили сад или бульвар цветочный.
И мирным выражением «пожалуйста»
Сменилось фронтовое слово «точно».
А кителя и всю обмундировку:
И шинеля, и клеши, и бушлаты —
Портные переушивали ловко:
Войну кроили миру на заплаты.
И постепенно замазывались трещины,
Разглаживались крепкие морщины,
И постепенно хорошели женщины,
И веселели хмурые мужчины.
Я на палубу вышел, а Волга
Бушевала, как море в грозу.
Волны бились и пели. И долго
Слушал я это пенье внизу.
Звук прекрасный, звук протяженный,
Звук печальной и чистой волны:
Так поют солдатские жены
В первый год многолетней войны.
Так поют. И действительно, тут же,
Где-то рядом, как прядь у виска,
Чей-то голос тоскует и тужит,
Песню над головой расплескав.
Шел октябрь сорок первого года.
На восток увозил пароход
Столько горя и столько народа,
Столько будущих вдов и сирот.
Я не помню, что беженка пела,
Скоро голос солдатки затих.
Да и в этой ли женщине дело?
Дело в женщинах! Только — в других.
Вы, в кого был несчастно влюбленным,
Вы, кого я счастливо любил,
В дни, когда молодым и зеленым
На окраине Харькова жил!
О девчонки из нашей школы!
Я вам шлю свой сердечный привет,
Позабудьте про факт невеселый,
Что вам тридцать и более лет.
Вам еще блистать, красоваться!
Вам еще сердца потрясать!
В оккупациях, в эвакуациях
Не поблекла ваша краса!
Не померкла, нет, не поблекла!
Безвозвратно не отошла,
Под какими дождями ни мокла,
На каком бы ветру ни была!
Стихи, не вошедшие в книгу **
«На том пути в Москву из Граца…»
На том пути в Москву из Граца[34],
В Москву из Вены, в Москву — с войны,
Где мы собирались отыграться,
Свое получить мы были должны,
На полпути, в одном государстве,
В каком-то царстве, житье-бытье,
Она сказала мне тихо: «Здравствуй!»,
Когда я поднял глаза на нее.
Мужчины и женщины этого года,
Одетые в формы разных держав,
Зажатые формой, имея льготу
На получение жизни одной,
Мужчины и женщины разных наций,
Как будто деревья разных пород,
Разноголосицу всех интонаций
Сливали в единый язык и народ.
Сливали и славили то, что выжили,
Что живы, что молоды все почти,
Что нынче лучше вчерашнего, выше ли,
Потом разберемся, по пути.
Дела плоховатые стали плохими.
Потом они стали — хуже нет.
Но я познакомился с женщиной; имя,
Имя было Жанет.
А что я, стану рыться в паспорте?
Она была Жанет — для меня.
Мне было тогда как слепцу на паперти.
Она пришла, беду сменя.
Беду, которая дежурила
Бессменной сиделкой над головой,
Она обманула, то есть обжулила.
Я понял, что я молодой и живой.
А все это было в 45-м
Году и сразу же после войны,
На том пути обратном, попятном,
Пройти который мы были должны.
На перекрестке пел калека.
Д. Самойлов
Ползет обрубок по асфальту,
Какой-то шар,
Какой-то ком.
Поет он чем-то вроде альта,
Простуженнейшим голоском.
Что он поет,
К кому взывает
И обращается к кому,
Покуда улица зевает?
Она привыкла ко всему.
— Сам — инвалид.
Сам — второй группы.
Сам — только год пришел с войны. —
Но с ним решили слишком грубо,
С людьми так делать не должны.
Поет он мысли основные
И чувства главные поет,
О том, что времена иные,
Другая эра настает.
Поет калека, что эпоха
Такая новая пришла,
Что никому не будет плохо,
И не оставят в мире зла,
И обижать не будут снохи,
И больше пенсию дадут,
И все отрубленные ноги
Сами собою прирастут.
Я дважды в жизни посетил футбол
И оба раза ничего не понял:
Все были в красном, белом, голубом,
Все бегали.
А больше я не помню.
Но в третий раз…
Но, впрочем, в третий раз
Я нацепил гремучие медали,
И ордена, и множество прикрас,
Которые почти за дело дали.
Тяжелый китель на плечах влача,
Лицом являя грустную солидность,
Я занял очередь у врача,
Который подтверждает инвалидность.
А вас комиссовали или нет?
А вы в тех поликлиниках бывали,
Когда бюджет
Как танк на перевале:
Миг — и по скалам загремел бюджет?
Я не хочу затягивать рассказ
Про эту смесь протеза и протеста,
Про кислый дух бракованного теста,
Из коего повылепили нас.
Сидевший рядом трясся и дрожал.
Вся плоть его переливалась часто,
Как будто киселю он подражал,
Как будто разлетался он на части.
В любом движеньи этой дрожью связан,
Как крестным знаком верующий черт,
Он был разбит, раздавлен и размазан
Войной: не только сплюснут,
но — растерт.
— И так — всегда?
Во сне и наяву?
— Да. Прыгаю, а все-таки — живу!
(Ухмылка молнией кривой блеснула,
Запрыгала, как дождик, на губе.)
— Во сне — получше. Ничего себе.
И — на футболе. —
Он привстал со стула,
И перестал дрожать,
И подошел
Ко мне
С лицом, застывшим на мгновенье
И свежим, словно после омовенья.
(По-видимому, вспомнил про футбол.)
На стадионе я — перестаю! —
С тех пор футбол я про себя таю.
Я берегу его на черный день.
Когда мне плохо станет в самом деле,
Я выберу трибуну,
Чтобы — тень,
Чтоб в холодке болельщики сидели,
И пусть футбол смиряет дрожь мою!
От имени коронного суда
Британского, а может быть, и шведского,
Для вынесения приговора веского
Допрашивается русская беда.
Рассуживает сытость стародавняя,
Чьи корни — в толще лет,
Исконный недоед,
Который тоже перешел в предание.
Что меряете наш аршин
На свой аршин, в метрической системе?
Л вы бы сами справились бы с теми,
Из несших свастику бронемашин?
Нет, только клином вышибают клин,
А плетью обуха не перешибают.
Ведь бабы до сих пор перешивают
Из тех знамен со свастикой,
Гардин
Без свастики,
Из шинеле́й.
И до сих пор хмельные инвалиды
Кричат: — Кто воевал, тому налей!
Тот первый должен выпить без обиды.
«Палатка под Серпуховом. Война…»
Палатка под Серпуховом. Война.
Самое начало войны.
Крепкий, как надолб, старшина,
И мы вокруг старшины.
Уже июльский закат погасал,
Почти что весь сгорел.
Мы знаем: он видал Хасан,
Халхин-Гол смотрел[35].
Спрашиваем, какая она,
Война.
Расскажите, товарищ старшина.
Который день эшелона ждем.
Ну что ж — не под дождем.
Палатка — толстокожий брезент.
От кислых яблок во рту оскомина.
И старшина — до белья раздет —
Задумчиво крутит в руках соломину.
— Яка ж вона буде, ця війна,
а хто іі зна.
Вот винтовка, вот граната.
Надо, значит, надо воевать.
Лягайте, хлопцы: завтра надо
В пять ноль-ноль вставать.
«На спину бросаюсь при бомбежке…»