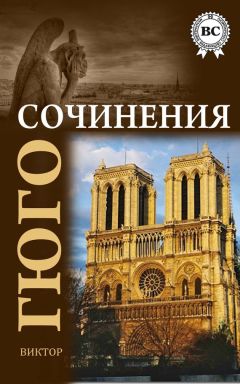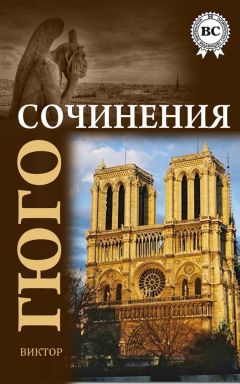«Мы бессильны против всемогущества уполномоченных комиссаров, особенно против уполномоченных Комитета общественного спасения. И хотя Женисье заявил на заседании 6 мая: „Любой комиссар стал сильнее короля“, — ничто не переменилось. Они карают и милуют. Массад в Анжере, Трюллар в Сент-Амане, Нион при генерале Марсе, Паррен при Сабльской армии, Мильер при Ниорской армии[359] — все они поистине всемогущи. Клуб якобинцев дошел до того, что назначил Паррена бригадным генералом. Обстоятельства оправдывают все. Делегат Комитета общественного спасения держит в руках любого генерал-аншефа».
Марат по-прежнему теребил бумажку, затем сунул ее в карман и не спеша подошел к Монто и Шабо, которые продолжали разговаривать и не заметили, как он вошел.
— Как там тебя, Марибон или Монто, — говорил Шабо, — а знаешь, я только что был в Комитете общественного спасения.
— Ну и что ж там делается?
— Поручили одному попу следить за дворянином.
— А!
— За дворянином вроде тебя.
— Я не дворянин, — возразил Монто.
— Священнику…
— Вроде тебя.
— Я не священник, — воскликнул Шабо.
И оба расхохотались.
— А ну-ка расскажи подробнее, — попросил Монто.
— Вот как обстоит дело. Некий поп, по имени Симурдэн, делегирован с чрезвычайными полномочиями к некоему виконту, по имени Говэн; этот виконт командует экспедиционным отрядом береговой армии. Следовательно, надо помешать дворянину вести двойную игру, а попу изменить.
— Все это очень просто, — сказал Монто. — Придется вывести на сцену третье действующее лицо — Смерть.
— Это я возьму на себя, — сказал Марат.
Собеседники оглянулись.
— Здравствуй, Марат, — сказал Шабо, — что-то ты стал редко посещать заседания.
— Врач не пускает, прописал мне ванны, — ответил Марат.
— Бойся ванн, — изрек Шабо, — Сенека[360] умер в ванне.
Марат улыбнулся.
— Здесь, Шабо, нет Неронов.
— Зато есть ты, — произнес чей-то рыкающий голос.
Это бросил на ходу Дантон, пробираясь к своей скамье; Марат даже не оглянулся.
Наклонившись к Монто и Шабо, он сказал шепотом:
— Слушайте меня оба, я пришел сюда по важному делу. Необходимо, чтобы кто-нибудь из нас троих предложил Конвенту проект декрета.
— Только не я, — живо отказался Монто, — меня не слушают, я ведь маркиз.
— И не я, — подхватил Шабо, — меня не слушают, я ведь капуцин.
— И меня тоже, — сказал Марат, — я ведь Марат.
Воцарилось молчание.
Когда Марат задумывался, обращаться к нему с вопросами было небезопасно. Однако Монто рискнул:
— А какой декрет ты хочешь предложить?
— Декрет, который карает смертью любого военачальника, выпустившего на свободу пленного мятежника.
— Такой декрет уже имеется, — прервал Марата Шабо. — Его приняли еще в конце апреля.
— Принять-то приняли, но на деле он не существует, — ответил Марат. — Повсюду в Вандее участились побеги пленных, а пособники беглецов не несут никакой кары.
— Значит, Марат, декрет вышел из употребления.
— Значит, Шабо, надо вновь ввести его в силу.
— Само собой разумеется.
— Об этом-то и требуется заявить в Конвенте.
— Совершенно необязательно, Марат, привлекать к этому делу весь Конвент, достаточно Комитета общественного спасения.
— Мы вполне достигнем цели, — добавил Монто, — если Комитет общественного спасения велит вывесить декрет во всех коммунах Вандеи и накажет для острастки двух-трех человек.
— И притом не мелкую сошку, — подхватил Шабо, — а генералов.
— Пожалуй, этого хватит, — произнес вполголоса Марат.
— Марат, — снова заговорил Шабо, — а ты сам скажи об этом в Комитете общественного спасения.
Марат посмотрел на него таким взглядом, что даже Шабо поежился.
— Шабо, — сказал он, — Комитет общественного спасения — это Робеспьер. А я не хожу к Робеспьеру.
— Тогда пойду я, — предложил Монто.
— Хорошо, — ответил Марат.
На следующий же день соответствующий декрет Комитета общественного спасения был разослан повсюду; властям вменялось в обязанность расклеить его по всем городам и селам Вандеи и выполнять неукоснительно, то есть предавать смертной казни всякого, кто причастен к побегу разбойников и пленных мятежников.
Декрет этот был лишь первым шагом. Конвенту пришлось сделать и второй шаг. Через несколько месяцев, 11 брюмера II года (ноябрь 1793 года), после того как город Лаваль открыл свои ворота вандейским беглецам, Конвент издал новый декрет, согласно которому каждый город, предоставивший убежище мятежникам, должен был быть разрушен до основания.
Со своей стороны европейские монархи объявили, что каждый француз, захваченный с оружием в руках, будет расстрелян на месте, и если хоть один волос упадет с головы короля, Париж будет стерт с лица земли; все это излагалось в манифесте за подписью герцога Брауншвейгского, подсказан этот манифест был эмигрантами, а составлен маркизом де Линноном, управляющим герцога Орлеанского.
Дикарство против варварства.
В ту пору в Бретани насчитывалось семь страшных лесов. Вандея — это мятеж церкви. И пособником этого мятежа был лес. Тьма помогала тьме.
В число семи прославленных бретонских лесов входили: Фужерский лес, который преграждал путь между Долем и Авраншем; Пренсейский лес, имевший восемь лье в окружности; Пэмпонский лес, весь изрытый оврагами и руслами ручьев, почти непроходимый со стороны Бэньона и весьма удобный для отступления на Конкорне — гнездо роялистов; Реннский лес, по чащам которого гулко разносился набат республиканских приходов (обычно республиканцы тяготели к городам), здесь Пюизэ[361] наголову разбил Фокара[362]; Машкульский лес, где, словно волк, устроил свое логово Шаретт; Гарпашский лес, принадлежавший семействам Тремуйлей, Говэнов и Роганов, и Бросельяндский лес, принадлежавший только феям.
Один из дворян Бретани именовался Хозяином Семилесья. Этот почетный титул носил виконт де Фонтенэ, принц бретонский.
Ибо помимо французского принца существует принц бретонский. Так, Роганы были бретонскими принцами. Гарнье де Сент в своем донесении Конвенту от 15 нивоза II года окрестил принца Тальмона «Капетом разбойников, владыкой Мэна и всея Нормандии».
История бретонских лесов в период между 1792 и 1800 годами могла бы стать темой специального исследования, и она на правах легенды вошла бы в обширную летопись Вандеи.
У истории своя правда, а у легенд — своя. Правда легенд по самой своей природе совсем иная, нежели правда историческая. Правда легенд — это вымысел, итог которого — реальность. Впрочем, и легенды и история обе идут к одной и той же цели — в образе преходящего человека представить вечночеловеческое.
Нельзя полностью понять Вандею, если не дополнить историю легендой; история помогает увидеть всю картину в целом, а легенда — подробности.
Признаемся же, что Вандея стоит такого труда. Ибо Вандея своего рода чудо.
Война темных людей, война нелепая и блистательная, отвратительная и великолепная, подкосила Францию, но и стала ее гордостью. Вандея — рана, но есть раны, приносящие славу.
В иные свои часы человеческое общество ставит историю перед загадкой, и для мудреца разгадка ее — свет, а для невежды — мрак, насилье и варварство. Философ поостережется вынести обвинительный приговор. Он понимает, что трудности влекут за собой неясность. Проходя, трудности, подобно тучам, отбрасывают на своем пути тень.
Если вы хотите понять Вандею, представьте себе отчетливо двух антагонистов — с одной стороны французскую революцию, с другой — бретонского крестьянина. Развертываются небывалые события; благодетельные перемены, происходящие одновременно, оборачиваются настоящей угрозой; цивилизация совершает гневный рывок; прогресс буйствует, забыв меру, несет с собой неслыханные и непонятные улучшения, и представьте, что на все это с невозмутимой важностью взирает дикарь, странный светлоглазый длинноволосый человек, вся пища которого — молоко да каштаны, весь горизонт — стены его хижины, живая изгородь да межа его поля; он знает наизусть голос каждого колокола на любой колокольне в окрестных приходах, воду он употребляет лишь для питья, не расстается с кожаной курткой, расшитой шелковым узором, словно татуировкой покрывающим всю одежду, как предок его, кельт[363], покрывал татуировкой все лицо; почитает в своем палаче своего господина; говорит он на мертвом языке, тем самым замуровывая свою мысль в склепе прошлого, и умеет делать лишь одно — запрячь волов, наточить косу, выполоть ржаное поле, замесить гречневые лепешки; чтит прежде всего свою соху, а потом уж свою бабку; верит и в святую деву Марию, и в Белую даму, молитвенно преклоняет колена перед святым алтарем и перед таинственным высоким камнем, торчащим в пустынных ландах; в долине — он хлебопашец, на берегу реки — рыбак, в лесной чаще — браконьер; он любит своих королей, своих сеньоров, своих попов, своих вшей; он несколько часов подряд может, не шелохнувшись, простоять на плоском пустынном берегу, угрюмый слушатель моря.