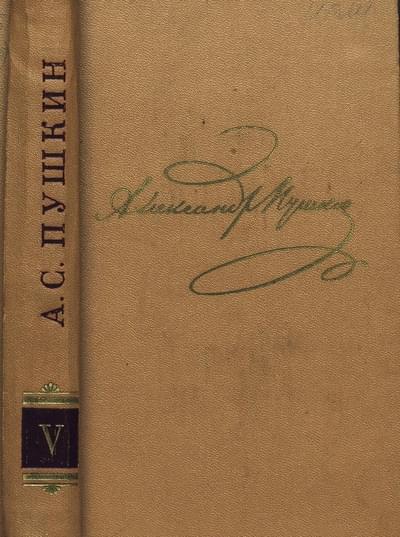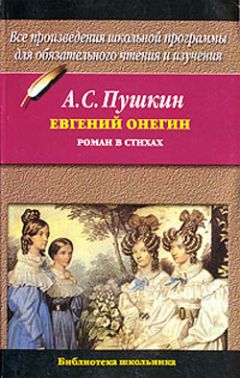времени» Карамзина оставляет герою в наследство библиотеку, «где на двух полках стояли романы» (Карамзин, 1, 764). Молодая дворянка начала XIX в. — уже, как правило, читательница романов. В повести некоего В. 3. (вероятно, В. Ф. Вельяминова-Зернова) «Князь В-ский и княгиня Щ-ва, или Умереть за отечество славно, новейшее происшествие во времена кампании французов с немцами и россианами 1806 года, российское сочинение» описывается провинциальная барышня, живущая в Харьковской губернии (повесть имеет фактическую основу). Во время семейного горя — брат погиб под Аустерлицем — эта прилежная читательница «произведений ума Радклиф, Дюкредюмениля и Жанлис, [48] славных романистов нашего времени» (цит. соч. ч. I, с. 58), предается любимому занятию: «Взяв наскоро «Удольфские таинства», забывает она непосредственно виденные сцены, которые раздирали душу ее сестры и матери <…> За каждым кушаньем читает по одной странице, за каждою ложкою смотрит в разгнутую перед собою книгу. Перебирая таким образом листы, постоянно доходит она до того места, где во всей живости романического воображения представляются мертвецы-привидения; она бросает из рук ножик и, приняв на себя испуганный вид, нелепые строит жесты» (там же, с. 60–61). О распространении чтения романов среди барышень начала XIX в. см. также: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 1. СПб., 1909, с. 11–13.
Образование молодой дворянки имело главной целью сделать из девушки привлекательную невесту. Характерны слова Фамусова, откровенно связывающего обучение дочери с будущим ее браком:
Дались нам эти языки!
Берем же побродяг, и в дом, и по билетам,
Чтоб наших дочерей всему учить, всему
И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам!
Как будто в жены их готовим скоморохам
(I, 4).
Естественно, что со вступлением в брак обучение прекращалось.
В брак молодые дворянки в начале XIX в. вступали рано. Правда, частые в XVIII в. замужества 14- и 15-летних девочек начали выходить из обычной практики, и нормальным возрастом для брака сделались 17–19 лет. [49] Однако сердечная жизнь, время первых увлечений молодой читательницы романов, начинались значительно раньше. И окружающие мужчины смотрели на молодую дворянку как на женщину уже в том возрасте, в котором последующие поколения увидали бы в ней лишь ребенка. Жуковский влюбился в Машу Протасову, когда ей было 12 лет (ему шел 23-й год). В дневнике, в записи 9 июля 1805 г., он спрашивает сам себя: «…можно ли быть влюбленным в ребенка?» (см.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904, с. 111). Софье в момент действия «Горя от ума» 17 лет, Чацкий отсутствовал три года, следовательно, влюбился в нее, когда ей было 14 лет, а может быть, и ранее, поскольку из текста видно, что до отставки и отъезда за границу он некоторое время служил в армии и определенный период жил в Петербурге («Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, Из Петербурга воротясь, С министрами про вашу связь…» — III, 3). Следовательно, Софье было 12–14 лет, когда для нее и Чацкого наступила пора
Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех,
Которые во мне ни даль не охладила,
Ни развлечения, ни перемена мест.
Дышал, и ими жил, был занят беспрерывно!
(IV, 14).
Наташе Ростовой 13 лет, когда она влюбляется в Бориса Друбецкого и слышит от него, что через четыре года он будет просить ее руки, а до этого времени им не следует целоваться. Она считает по пальцам: «Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать» («Война и мир», т. I, ч. 1, гл. X). Эпизод, описанный И. Д. Якушкиным (см.: Пушкин в воспоминаниях современников, 1, 363), выглядел в этом контексте вполне обычно. Шестнадцатилетняя девушка — уже невеста, и к ней можно свататься. В этой ситуации определение девушки как «ребенка» отнюдь не отделяет ее от «возраста любви». Слова «ребенок», «дитя» входили в бытовой и поэтический любовный лексикон начала XIX в. Это следует иметь в виду, читая строки вроде: «Кокетка, ветреный ребенок» (V, XLV, 6).
Выйдя замуж, юная мечтательница часто превращалась в домовитую помещицу-крепостницу, как Прасковья Ларина, в столичную светскую даму или провинциальную сплетницу. Вот как выглядели провинциальные дамы в 1812 г., увиденные глазами умной и образованной москвички М. А. Волковой, обстоятельствами военного времени заброшенной в Тамбов: «Все с претензиями, крайне смешными. У них изысканные, но нелепые туалеты, странный разговор, манеры как у кухарок; притом они ужасно жеманятся, и ни у одной нет порядочного лица. Вот каков прекрасный пол в Тамбове!» (Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников. Сост. В. В. Каллаш. М., 1912, с. 275). Ср. с описанием общества провинциальных дворянок в ЕО:
Но ты — губерния Псковская
Теплица юных дней моих
Что может быть, страна глухая
Несносней барышень твоих?
Меж ими нет — замечу кстати
Ни тонкой вежливости знати
Ни [ветрености] милых шлюх
Я уважая русский дух,
Простил бы им их сплетни, чванство
Фамильных шуток остроту
Порою зуб нечистоту
[И непристойность и] жеманство
Но как простить им [модный] бред
И неуклюжий этикет
(VI, 351).
В другом месте автор подчеркнул умственную отсталость провинциальных дам, даже по сравнению с отнюдь не высокими критериями образования и глубокомыслия провинциальных помещиков:
…разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен
(II, XI, 13–14).
И все же в духовном облике женщины были черты, выгодно отличавшие ее от окружающего дворянского мира. Дворянство было служилым сословием, и отношения службы, чинопочитания, должностных обязанностей накладывали глубокую печать на психологию любого мужчины из этой социальной группы. Дворянская женщина начала XIX в. значительно меньше была втянута в систему служебно-государственной иерархии, и это давало ей большую свободу мнений и большую личную независимость. Защищенная к тому же, конечно, лишь до известных пределов, культом уважения к даме, составлявшим существенную часть понятия дворянской чести, она могла в гораздо большей мере, чем мужчина, пренебрегать разницей в чинах, обращаясь к сановникам или даже к императору. Это в соединении с общим ростом национального самосознания в среде дворянства после 1812 г. позволило многим дворянкам возвыситься до подлинного гражданского пафоса. Письма уже упомянутой М. А. Волковой к ее петербургской подруге В. И. Ланской в 1812 г. свидетельствуют, что П, создавая в «Рославлеве» образ Полины — экзальтированно патриотической и мечтающей о героизме девушки, полной гордости и глубокого чувства независимости, смело идущей наперекор