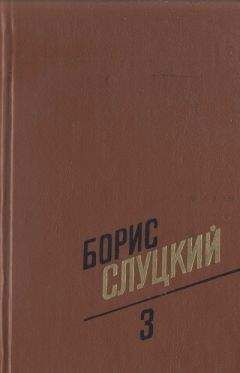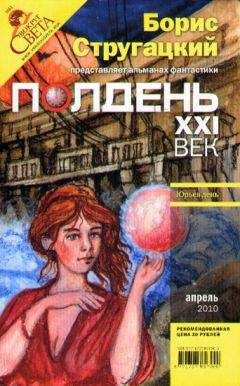ДЕРЕВНЯ И ГОРОД
Когда в деревне голодали —
и в городе недоедали.
Но все ж супец пустой в столовой
не столь заправлен был бедой,
как щи с крапивой,
хлеб с половой,
с корой,
а также с лебедой.
За городской чертой кончались
больница, карточка, талон,
и мир села сидел, отчаясь,
с пустым горшком, с пустым столом,
пустым амбаром и овином,
со взором, скорбным и пустым,
отцом оставленный и сыном
и духом брошенный святым.
Там смерть была наверняка,
а в городе — а вдруг устроюсь!
Из каждого товарняка
ссыпались слабость, хворость, робость.
И в нашей школе городской
крестьянские сидели дети,
с сосредоточенной тоской
смотревшие на все на свете.
Сидели в тихом забытье,
не бегали по переменкам
и в городском своем житье
все думали о деревенском.
Страдания людей и лошадей,
мучения столиц и деревушек
окончились. Умолкли ревы пушек.
Сталь жаркая, надолго холодей!
В тот день, когда окончилась война,
а я тот день запомнил поминутно,
торжественно, официально, нудно
звенела комариная струна.
В начале мая редкостен комар,
а может, в Альпах правила иные,
а может, прежде
сильные, стальные
гасили струны
этой песни жар.
Но вслед за комаром луна взошла,
и тонкий, нежный звук ее восхода
отчетливо прослышала пехота
и тотчас потряслась: «Ну и дела!»
Да этак мы дождемся петуха,
собачий лай услышим и мычанье
коров
и даже, наконец, молчанье,
что предварит явление стиха!
И вот действительно петух запел,
глашатай утра, голосистый петел,
пес забрехал,
и вслед за ними,
светел
и звонок, словно колос,
стих поспел.
Оказывается, война
не завершается победой.
В ночах вдовы, солдатки бедной,
ночь напролет идет она.
Лишь победитель победил,
а овдовевшая вдовеет,
и в ночь ее морозно веет
одна из тысячи могил.
А побежденный побежден,
но отстрадал за пораженья,
восстановил он разрушенья,
и вновь — непобежденный он.
Теперь ни валко и ни шатко
идут вперед его дела.
Солдатская вдова, солдатка
второго мужа не нашла.
Седой и толстый. Толстый и седой.
Когда-то юный. Бывший молодой,
а ныне — зрелый и полупочтенный,
с какой-то важностью, почти потешной,
неряшлив, суетлив и краснолиц,
штаны подтягивая рукою,
какому-то из важных лиц
опять и снова не дает покоя.
В усы седые тщательно сопя,
он говорит: «Прошу не за себя!»
А собеседник мой, который тоже
неряшлив, краснолиц, и толст, и сед,
застенчиво до нервной дрожи
торопится в посольство на обед.
— Ну что он снова пристает опять?
Что клянчит? Ну, ни совести, ни чести!
Назад тому лет тридцать, тридцать пять
они, как пишут, начинали вместе.
Давно начало кончилось. Давно
конец дошел до полного расцвета.
— И как ему не надоест все это?
И как ему не станет все равно?
На солнце им обоим тяжело —
отказываться так же, как стараться,
а то, что было, то давно прошло —
все то, что было, если разобраться.
Товарищи и начальники
не уважали его,
но это его не печалило.
— Ништо, — говорил, — ничего!
Ништо! — говорил. — Обойдется.
Всему свой день, свой час.
Еще у вас найдется
и уваженье для нас.
И вот под самую старость
незнаемо почему
уваженье досталось —
целый кусок ему.
Он проходит по улице
сквозь вечернюю тьму.
Все кланяются, кланяются,
кланяются ему.
И все недоразумения
выяснились, утряслись,
и все прекрасного мнения
о том, как он прожил жизнь.
Бывшие недоброжелатели,
забывши неправый суд,
словно друзья и приятели,
руки ему трясут.
«Нахал, шарлатан, горлопан…»
Нахал, шарлатан, горлопан,
наш микрорайонный Печорин,
шагающий по головам,
наедине был печален.
Я долго его наблюдал,
когда на него не глядели.
Господь ему счастья не дал,
действительно, в самом деле.
Тяжелой печали печать
уста его начала старить,
как будто привыкли молчать,
а не балагурить, гутарить.
Но только из-за угла
девчонка засеменила,
всю гордость с лица согнала
и пошлостью заменила.
«Щенок, отведавший пинка…»
Щенок, отведавший пинка,
уклончиво и вяло лает,
но смолкнуть все же не желает.
Как жалко мне того щенка.
Как был задорен! Как бежал
на цепке впереди прогресса.
Как радостно, для интереса,
но без корысти он визжал.
А все же молодость верней,
милей задиристость и резвость,
чем принудительная трезвость
антабус принявших
парней.
Не пожелаю никому
того, что им легло на плечи.
Войну, тюрьму или суму
перенести куда полегче.
В Эдинбурге — столичке
Шотландского королевства —
я прочел на табличке,
натертой до блеска:
«Не забудьте о Джеке,
скамейку дубовую эту
в девятнадцатом веке
муниципалитету
подарившем,
так же, как четыре другие,
и почившем
в Индии от ностальгии».
Лет сто тридцать скамья
дожидалась, в надежде и вере,
что прочту это я,
отдыхая тихонечко в сквере.
Лет сто тридцать табличку
натирали до блеска.
Благодарна столичка
Шотландского королевства!
Это — вечная слава.
А то, что недорого стоит,
пусть волнует нас слабо
и вовсе не беспокоит.
Стивенсон, здесь стоящий,
Вальтер Скотт, здесь стоящий,
удостоились вящей,
но не более настоящей.
Их романы забудут.
Не часто и ныне читают.
На скамейке же будут отдыхать,
как сейчас отдыхают.
Ну и Джек! Он допер,
разорившись едва ли,
чтоб с тех пор до сих пор
вспоминали его на бульваре.
Это ж надо иметь
понимание славы немало,
чтоб бульварная медь
ваше имя навек сохраняла
и чтоб им упивался
всякий, кто на скамейку садился!
Ну и Джек! Не прорвался
к славе, так просочился.
Стюард в шотландском ресторане
глядит с приличных расстояний:
— Им снова не хватает хлеба,
им снова принести воды.
О небо, до чего нелепы,
хоть симпатичны, не горды.
Он, заработавший в неделю
на пять рубашек, клуба член,
он — прихожанин, джентльмен,
глядит:
— Глаза бы не глядели,
поля они готовы съесть,
моря они готовы выпить. —
Но что-то в них такое есть,
что во всю жизнь ему не выжить.
И призадумался стюард,
как в том же городе шотландском
король задумался Стюарт
перед судьбы зловещей лаской,
задумался и понимает
и, как ни нелегки труды,
хлеба́ немедля вынимает
и, главное, несет воды.