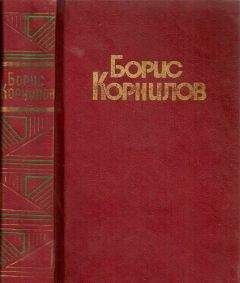1927
На санных путях,
овчинами хлопая,
Ударили заморозки.
Зима.
Вьюжит метель.
Тяжелые хлопья
Во первых строках моего письма.
А в нашей губернии лешие по лесу
Снова хохочут, еле дыша,
И яблони светят,
И шелк по поясу,
И нет ничего хорошей камыша.
И снова девчонка
сварила варенье.
И плачет девчонка,
девчонка в бреду,
Опять перечитывая стихотворенье
О том, что я —
никогда не приду.
И старую сóсну скребут медвежата —
Мохнатые звери.
Мне душно сейчас.
Последняя песня тоскою зажата,
И высохло слово,
на свет просочась.
И нет у меня
никакого решенья.
Поют комсомолки на том берегу,
Где кабель
высокого напряженья
Тяжелой струей ударяет в реку.
Парнишка, наверное, этот,
глотая
Горячую копоть,
не сходит с ума.
Покуда вьюга
звенит золотая
Во первых строках моего письма.
Какую найду небывалую пользу,
Опять вспоминая,
еле дыша,
Что в нашей губернии
лешие по лесу.
И нет ничего хорошей камыша?
И девушка,
что наварила варенья
В исключительно плодородном году,
Вздохнет от печального стихотворенья
И снова поверит, что я не приду.
И плачет, и плачет, платок вышивая,
Травинку спеша пережевывая…
И жизнь твоя — песенка неживая,
Темная,
камышовая.
1927
Покоя и скромность ради
В краю невеселых берез
Зачесаны мягкие пряди
Твоих темноватых волос.
В альбомчиках инициалы
Поют про любовь и про Русь,
И трогает провинциалок
Не провинциальная грусть.
Но сон промаячит неслышно,
И плавает мутная рань, —
Всё так же
на солнышко вышла
И вянет по окнам герань.
Ты смотришь
печально-печально,
Цветок на груди теребя,
Когда станционный начальник
Намерен засватать тебя.
И около маленьких окон
Ты слушаешь, сев на крылец,
Как плещется в омуте окунь
И треплет язык бубенец,
А вечером сонная заводь
Туманом и теплой водой
Зовет по-мальчишески плавать
И плакать в тоске молодой.
Не пой о затишье любимом —
Калитка не брякнет кольцом,
И милый протопает мимо
С упрямым и жестким лицом.
Опять никому не потрафив,
Он тусклую скуку унес,
На лица твоих фотографий
Глядит из-под мятых волос.
А ночь духотою намокла,
И чудится жуткая дрянь,
Что саваны машут на окнах
И душит за горло герань…
Но песня гуляет печально,
Не нашу тоску полюбя, —
Пока станционный начальник
Не смеет засватать тебя.
<1928>
День исчезает, догорев,
Передо мной вечерний город,
И прячет лица барельеф
Исаакиевского собора.
И снова я
В толпе гуляк
Иду куда-то наудачу,
И вот —
Топочет краковяк
И шпоры звякают и плачут.
Летят бойцы
И сабли вниз.
Шумит прибрежная осока…
Играет странный гармонист,
Закинув голову высоко.
И деньги падают, звеня,
За пляску, полную азарта.
Со взвизгиванием коня,
С журчаньем рваного штандарта.
Но гармонисту…
Что ему?
Он видит саблю и уздечки.
Опять в пороховом дыму
Зажато польское местечко.
И снова зарево атак…
Но лишь уходят с поля танки,
Разучивает краковяк
На взвизгивающей тальянке…
Но как-то раз,
Стреляя вниз,
Свистели на седле рубаки,
И пел взволнованный горнист
О неприятельской атаке.
Надорванная трель команд,
Попытка плакать и молиться…
И полз удушливый туман
На человеческие лица.
И с истеричностью старухи
У смерти в согнутых клешнях
Солдаты вскидывали руки,
Солдаты падали плашмя…
Кому-то нужно рассказать,
Как неожиданно и сразу
Во лбу полопались глаза
От убивающего газа.
И у слепца висит слеза.
И, может, слез не будет больше.
Он обменял свои глаза
На краковяк веселой Польши.
И часто чудится ему
Минута острая такая,
Как в голубеющем дыму
Глаза на землю вытекают.
И люди умирают как…
А в это время
Под руками
Хохочет польский краковяк,
Притоптывая каблуками.
<1928>
Вот послушай меня, отцовская
сила, сивая борода.
Золотая,
синяя,
Азовская,
завывала, ревела орда.
Лошадей задирая, как волки,
батыри у Батыя на зов
у верховья ударили Волги,
налетая от сильных низов.
Татарин,
конечно,
вернá твоя
обожженная стрела,
лепетала она, пернатая,
неминуемая была.
Иго-го,
лошадиное иго —
только пепел шипел на кустах,
скрежетала литая верига
у боярина на костях.
Но, уже запирая терем
и кончая татарскую дань,
царь Иван Васильевич зверем
наказал
наступать
на Казань.
Вот послушай, отцовская сила,
сивая твоя борода,
как метелями заносило
все шляхетские города.
Голытьбою,
нелепой гульбою,
матка бозка и панóве,
с ним бедовати —
с Тарасом Бульбою —
восемь весен
и восемь зим.
И колотят копытами в поле,
городишки разносят в куски,
вот высоких насилуют полек,
вырезая ножами соски.
Но такому налету не рады,
отбивают у вас казаки,
поджигают полковника, гады,
над широким Днепром гайдуки.
Мы опять отшуруем угли,
отпоем, отгуляем сполна —
над Союзом Советских Республик
поднимает копыто война,
небывалого роста, клыката,
черной бурею задрожав,
интервенция и блокада
всех четырнадцати держав.
Вот и вижу такое дело —
кожу снятую на ноже,
загоняют мне колья в тело,
поджигают меня уже.
Под огнями
камнями становья
на ножи наскочила она,
голова молодая сыновья
полетела, как луна.
Голова —
молода и проста ты,
не уйдешь в поднебесье луной —
вровень подняты аэростаты
с этой белою головой.
Под кустами неверной калины
ты упала,
навеки мертва, —
гидропланы и цеппелины
зацепили тебя, голова.
Мы лежим
локоть об локоть,
рядом,
я и сын,
на багровом песке;
люизитом —
дымящимся ядом —
кровь засушена на виске.
Но уже по кустам молочая,
колыхая штыки у виска,
дымовые завесы качая,
регулярные вышли войска.
Налетели, подобные туру, —
рана рваная
и поджог —
на твою вековую культуру,
золотой европейский божок.
Только штофные стены музея,
где гремит бронированный танк,
шпага черная на портупее,
томагаук
и бумеранг…
Обожженное дымом копыто…
Только стены музея стоят
невеселым катáлогом пыток,
что горели полвека назад.
Орды синие и золотые
в нем оставили бурю подков,
и копье и копыто Батыя,
Чингисхана пожары с боков.
<1928>