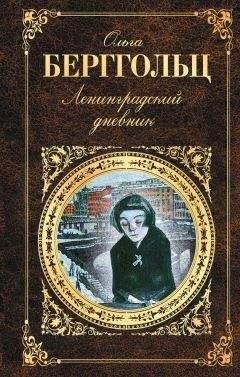Николай и Шварцы. Коля – дичок и гений – по-мальчишечьи втайне обожал Шварца, а Шварцы – его.
Он сторонился Германа, других моих друзей и приятелей по литературе, а Шварца любил, и Анну Андреевну любил. Как я любила наслаждаться ими вдвоем – Анной Андреевной и Евгением Львовичем – у себя, или у Германов, или у него.
[Над строкой: «Эйхенбаум, Андроников (танцевавший Уланову) – двойное чудо!»]
Они были изящны, той интеллигентной изящностью, которая как дар, как кровь, – изящный внутренне и внешне, – свойство, почти утраченное нами и совершенно не известное новому поколению поэтов. Не изысканные, не стиляги – о, какие космические пропасти лежат между этими понятиями, а именно изящны, – как, например, изящен был Светлов, Маяковский, как несомненно изящен Твардовский. А вот Инбер – манерна.
Их изящество не исключает ни глубины чувств, ни страстей. Я ведь пишу о Шварце – а говорю, и даже подробно (об Ахматовой у ворот Фонтанного дома, за пошивкой мешков, сочинением четверостиший), о Николае, о моем папе, любившем его, и как любили его Шварцы! – но как я могу говорить о Жене без всех этих людей, дорогих мне, любивших его и любимых им? Он немыслим вне людей, он жил, и мыслил, и творил не только для них, но и ими… Писал ими, как красками, образы свои, то светлые, то зловещие. Он был часть нас, – а МЫ – органичная часть народа…
Я долго не могла начать писать воспоминания об Е. Л. Шварце, пока не поняла, что я и не смогу написать о нем «воспоминания», пока не поняла, что писать о нем – это писать о своей, о моей жизни, – так как он неотторжимая часть моей жизни, часть души моей, кажется, еще живой.
Мне писать о нем – вспоминать его – разве это перечислять запомнившиеся его афоризмы, шутки, остроты? Рассказать лишь его повадки, как он, сдерживаясь, прыскал и прикрывал при этом глаза дрожащей своей рукой? Мне рассказывать о нем – это рассказывать чуть ли не обо всем горчайшем и мужественном отрезке жизни, отрезке пути духовного, – такой след его неизгладимо хранится во мне и, я знаю, почти во всех людях, кто близко знал его.
Как мы принимали Пристли и боялись есть то, что «выставлено». Шварц спросил:
– А как ты думаешь, это можно съесть?
Трясущимися руками завернул бутерброд и спросил меня:
– А как ты думаешь, могу я это Кате отнести? Это не воровство?
– Женя…
– Да ну, мне противно.
– А Пристли сказал: «Такой завтрак не мог бы выставить английский король».
– Ах король?! Ну, где ему…
* * *
Встреча с первороссиянином Гавриловым.
3/VIII-60
2 ч. ночи.
Хотя уже очень поздно и страшно болит голова, не могу не записать о встрече с первороссиянином Михаилом Ивановичем Гавриловым. Ожидала увидеть непременно глубокого старика, и даже в доме готовились к приему именно старичка и уже именовали его «старичок». «А чем же мы угостим старичка? Ведь не раками же!» – и мы ходили с Наташкой в магазин без продавца – искать для старика мягонького кексика или чего-нибудь такого…
Первороссийск. Первороссияне… Это уже было так далеко. Только история священная, только поэзия теряется в ретроспективе веков…
А пришел высокий, плечистый, с довольно густыми полуседыми, откинутыми назад волосами, очень крепкий пожилой человек – совсем не намного старше меня. Он был так крепок, так подтянуто-спортивен, так профессионально объяснил мне, что делать с уснувшими раками, – поскольку он рыболов и охотник, – что, когда мы сели в столовой друг против друга, – почти истерический смех одолел меня: хорош старичок! И вдруг радостно и озорно и до изумления по-новому открылось: да ведь он – мой современник, мой «годок», он вовсе не где-то далеко, он вовсе не только поэзия, ее желанная, но несбыточная мечта, или вымысел мой, – он живой, реальный человек, такой же, как я. Да ведь детство его в Первороссийске совпадало с моим детством в Угличе!
И вот он заговорил, нервно, возбужденно, я бы сказала, даже болезненно…
Его первые фразы были вызваны моим идиотским смехом и затем попытками разъяснить ему, почему я хохочу. Да потому, что он не старик! И я рада этому!..
Но он не понял этого. Поначалу он вроде даже обиделся, его глаза с широко разлитыми зрачками немножко заметались. Он заговорил:
– Я, конечно, был в коммуне ребенком, подростком, но ведь, знаете, детская память крепче всего схватывает видения мира и держит их всю жизнь, и эти впечатления формируют человека. (Я начала слушать с волнением – да ведь он же говорит мои мысли из «Дневных звезд».)
И поэтому Первороссийск бессмертен, хотя исчезла сама точка – она уже почти затоплена. Первороссийск у меня тут, в груди. Он для меня – святыня, что бы со мной ни стало. Он в людях.
КАПИТАЛЬНАЯ МЫСЛЬ, которую надо будет провести красной нитью: Первороссийск – бессмертен в людях, он вообще – в людях, в людях дела, а не в колхозах, совхозах и т. п.
Это ВТОРАЯ капитальная мысль, а первая – о нашей современности с первороссиянами. О совместном, едином во времени и пространстве существовании с легендами, поэзией, историей. Сосуществование времен! Оно – в человеке.
Он говорил о двадцатом годе – как они дрожали, ожидая расстрела при отходе Колчака, а в это время в морозной келье мы с Муськой… а в это время на VIII съезде Советов… Единовременность, симфоничность происходящего…
И вот в нем навсегда осталось это незыблемое, чистое, священное – Коммуна. И биография его до ужаса схожа с моей и с замыслом всего первого тома «Дневных», которых он тогда не читал. В жизни его было и подозрение <неразб.>. Незаслуженное, облыжное обвинение, подозрение начинается с того, что он был «в какой-то коммуне», тогда как сказано товарищем Сталиным, что это «перегиб» и надо не коммуны, но артели, – исключение из партии, гонения, не дают работать в полную силу и с радостью (как мне – писать правду), сына Первороссийска гнут, калечат, терзают… Мне становится страшно, как будто бы я слышу самое себя, – как во время галлюцинации, самые затаенные мысли, даже от себя затаенные, загнанные глубоко внутрь. На минуту нервы начинают сдавать, и сверкает мысль: «Да Гаврилов ли это? А может, вовсе и нет никого, а мне все это только чудится?»
Минутами – как карамазовский черт… Потому что первороссиянин говорит МОИМИ МЫСЛЯМИ, моими словами, хотя и сбивчиво, и почти косноязычно.
– …И одиночество, такое одиночество… Никого! Все рассыпались, никто не доверяет друг другу…
Разве так было в коммуне? Разве за это боролась коммуна?
Я был подростком, я многого не сознавал, но я вижу, что я не за это боролся, и пахал на себе, и пропалывал хлеба, руки до крови раня острыми сорняками… А теперь я вроде скрывать должен, что я был коммунаром, мне говорят: «Вы поторопились, вы перегнули». Да что, чем мы перегнули? Тем, что друг за друга держались и верили друг другу?! А теперь – да ведь это РАЗРУШАЕТСЯ РУССКИЙ ХАРАКТЕР, потому что ведь русский мужик искони, всю жизнь на доверии друг к другу строил. Дрались, друг друга подвздох порой били, но – единение. Открытая душа, поддержка друг друга. На русском характере Первороссийск взошел…
Коммуна пришла ко мне как раз в эти годы – 38–39-е, когда коммунаров и меня гнали, и мне как раз в эти годы, по этим же мотивам «зарезали» сценарий о Первороссийске. Я обратилась к ней снова в 1949 году, после краха всеобщего и при первых признаках краха неверного военного счастья. – Спаси меня…<…>
М. И. Гаврилов:
«Распадение русского характера, распад русского характера», – это он о ежовско-бериевских временах говорит.
Русский человек добр, общителен, доверчив, приветлив, правдив… А что из него сделали?!
О коммунарах: – Мы рассеялись, мы не искали друг друга, и никто не интересовался нами. Никто не спросил: «А как вы теперь живете?..» Вот только вы и вспомнили – в поэме… Я и пришел.
(Но это неверно. Помнят, и помогают, и собирают, и памятники ставят…)
Но вот о чем-то главном – забыли. Ушел дух коммуны. Не сохранен и остов. На месте ее – моря и сталинские стройки.
4/VIII-60
Все время продолжаю думать о вчерашнем визите Гаврилова. Вот я уже и совершила, собственно говоря, поездку в Первороссийск – не в пространстве, а в глубину собственной души, биографии, – души и биографии поколения, путешествия в «Трагедию всех трагедий» в ее истории и развитии и сегодняшнем, современном состоянии. Да, в частности, до чего же все происходящее с ним (с нами) воистину современно. (О? если б знали обо всем этом там, в мире…) Вот она, отразившаяся, точнее – жаждущая отражения во мне – дневная звезда.
Командировка «в собственное сердце».