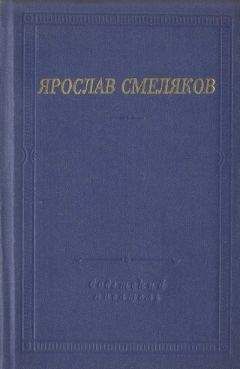206. КОМИССАРЫ
Вы, отдав жизнь одной идее
преображения земли,
ушли из армии в музеи,
в тома истории ушли.
И я гляжу с любовью тяжкой,
как ветер вьется фронтовой
над прибалтийскою тельняшкой
и перекопской кобурой.
Но даже с фотографий старых,
на фоне выцветших знамен,
вы речь ведете, комиссары
непререкаемых времен.
И полпланеты утром мая,
когда кружится голова,
за вами громко повторяет
тогдашних митингов слова.
1966
Московских улиц мирный житель,
уже не молод и устал,
я Вас — Вы это мне простите —
ни разу в жизни не видал.
Но Ваше имя, Ибаррури,
с которым я в то время рос,
летело яростно, как буря
из-под светящихся колес.
Мы громогласно повторяли,
мальчишки сопредельных стран,
на каждой площади и в зале:
«Но пасаран! Но пасараи!»
Жгли душу горечь и обида
и даже словно бы вина.
Но ведь падением Мадрида
та не закончилась война.
Не Ваш ли сын под Сталинградом,
кончаясь от немецких ран,
шептал с уже померкшим взглядом:
«Но пасаран! Но пасаран!»
Как Вы когда-то заклинали,
в тяжелом гуле фронтовом
мы устояли, устояли.
Стоим,
как прежде,
на своем.
И, ни на шаг не отступая,
перед лицом враждебных стран
мы всенародно утверждаем:
«Но пасаран! Но пасаран!»
1966
1
Я не забуду домик этот,
весь деловой его уют,—
так строят жизнь свою поэты,
и так мыслители живут.
На полках пьесы и рассказы.
Цветы.
Но более всего
меня обрадовала сразу
та фотография его,
где он с тяжелою лопатой,
неотутюжен, непобрит,
как сельский житель небогатый,
меж грядок собственных стоит.
Есть люди, что, не без уменья
в купе устроивши багаж,
глядят с жантильным умиленьем
на пролетающий пейзаж.
Но любит только тот природу
и только тот ее познал,
кто спину гнул над огородом
и глину скудную копал.
2
Интересуясь местным бытом,
я всё примеривал к себе.
В саду у Чапека прибита
кормушка птичья на столбе.
И надо ж было так случиться,
что я узнал под тем столбом,
что те же самые синицы
летают за моим окном.
И так же живо хлопотушки,
с таким же тщанием, как тут,
из зимней маленькой кормушки
на ветви семечки несут.
Такие же, сквозь солнце, тучи,
такой же сад, такой же вход.
Вот только разве что получше
писал большой писатель тот.
3
Те люди, что его читали не так,
что лишь бы что читать,
в подарок Чапеку прислали
резную детскую кровать.
Я перед нею скинул кепку
и помню здорово досель
ту деревянную колебку,
колыску или колыбель.
Ведь все мы вышли в самом деле
весенним или зимним днем
из деревянной колыбели
и в гроб из дерева уйдем.
И лишь задача та отдельна,
как путь пройти достойно свой
от первой песни колыбельной
до панихиды гробовой.
1966
В белорусской деревне
лет сорок примерно назад
жили-были батрачка
и пленный австрийский солдат.
У солдата чужого
понятно что жизнь не легка:
нет сохи для хозяйства
и нет для атаки штыка.
И она-то, батрачка,
ничуть не богаче была:
ни двора, ни колодца,
ни — хоть бы для смеху — козла.
Но зато эта девка
в скитаниях долгих своих
нахваталась словечек
и всяких идей городских.
Да и он, хоть для виду
таился на первых порах,
научился чему-то
на русско-германских фронтах.
И хотя перед каждым
австрийскую шапку снимал,
что-то все-таки думал
и что-то свое понимал.
Вскоре так получилось
в те, еще доколхозные, дни,
что без свадебных песен
устроили свадьбу они.
Помощь им полагалась,
и нехотя им помогли:
дали бедную хатку
и полдесятины земли.
Для кулацкой деревни,
притихшей средь тучных полей,
было это семейство
любых ревизоров страшней.
Те приедут, посмотрят,
завалятся, выпимши, спать
и в своей таратайке
отправятся в город опять.
А вот эти-то, наши,
как словно бы будущий суд,
всё, до зернышка, знают
и всё, до поры, стерегут.
Это всё полбеды,
а беда из того состоит,
что советское время
за этим семейством стоит.
Их-то можно купить
или тихо помочь им пропасть, —
не убьешь и не купишь
большую советскую власть.
Из далекой столицы
в избенку безвестную ту
стали им присылать —
для поддержки души — «Бедноту».
А потом они сами —
ни совести нет, ни стыда —
отправляли открыто
статейки-идейки туда.
Если кто не поверит
в перо грамотеев таких,
пусть в той старой газете
посмотрит на подписи их.
Пусть в газетной подшивке
за тот позабывшийся год
их статейки-затейки
о будущем нашем прочтет.
Под соломенной крышей,
вернувшись в потемках с работ,
стал у них собираться
какой-то неверный народ.
Нет приказа еще,
не прислали еще директив,
но сплотился уже
молодой деревенский актив.
То еще не колхоз,
до колхоза еще погоди,
но уже он мерцает,
наш завтрашний день, впереди.
Если кто сомневается
в силе актива того —
пусть посмотрит на землю
хотя б из окна своего.
1966
Здравствуй, давний мой приятель,
гражданин преклонных лет,
неприметный обыватель,
поселковый мой сосед.
Захожу я без оглядки
в твой дощатый малый дом.
Я люблю четыре грядки
и рябину под окном.
Это всё весьма умело,
не спеша поставил ты
для житейской пользы дела
и еще для красоты.
Пусть тебя за то ругают,
перестроиться веля,
что твоя не пропадает,
а шевелится земля.
Мы-то знаем, между нами,
что вернулся ты домой
не с чинами-орденами,
а с медалью боевой.
И она весьма охотно,
сохраняя бравый вид,
вместе с грамотой почетной
в дальнем ящике лежит.
Персонаж для щелкоперов,
Мосэстрады анекдот,
жизни главная опора,
человечества оплот.
Я, об этом забывая,
не стесняюсь повторить,
что и сам я обываю
и еще настроен быть.
Не ваятель, не стяжатель,
не какой-то сукин сын —
мой приятель, обыватель,
непременный гражданин.
1966
Одна младая поэтесса,
живя в достатке и красе,
недавно одарила прессу
полустишком-полуэссе.
Она, отчасти по привычке
и так как критика велит,
через окно из электрички
глядела на наружный быт.
И углядела у обочин
(мелькают стекла и рябят),
что женщины путей рабочих
вдоль рельсов утром хлеб едят.
И перед ними — случай редкий,
всем представленьям вопреки,—
не ресторанные салфетки,
а из холстины узелки.
Они одеты небогато,
но всё ж смеются и смешат.
И в глине острые лопаты
средь ихних завтраков торчат.
И поэтесса та недаром
чутьем каким-то городским
среди случайных гонораров
вдруг позавидовала им.
Ей отчего-то захотелось
из жизни чуть не взаперти,
вдруг проявив большую смелость,
на ближней станции сойти
и кушать мирно и безвестно —
почетна маленькая роль! —
не шашлыки, а хлеб тот честный
и крупно молотую соль.
…А я бочком и виновато
и спотыкаясь на ходу
сквозь эти женские лопаты,
как сквозь шпицрутены, иду.
1966