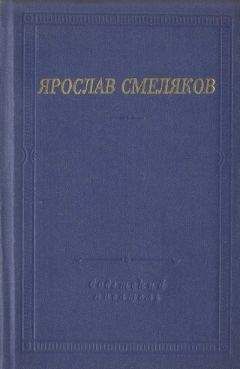219. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОСТ
Не глядя в небо голубое,
не наблюдая красоту,
стоим — по пропуску — с тобою
на Государственном мосту.
Под нами медленно струится
и поперек и вдоль реки
одна державная граница
земле и небу вопреки.
Тебе, понятно, не до позы,
совсем тебе не просто тут.
И только слезы, только слезы
вдоль щек невидимо текут.
Ты их стираешь кулаками.
Твоя родная сторона
и пулеметом и штыками
на две страны разделена.
И прячу я глаза косые.
Ведь так же трудно было б мне,
когда бы часть моей России
в чужой лежала стороне.
Хотя ты ближе стал отныне,
я праздных слов не изреку.
…Весенней ночью на машине
мы возвращаемся в Баку.
1966
Повторяются заново
давние даты,
мне до пенсии
только рукою подать,
но сегодня,
как в детстве,
ушедшем куда-то,
в пионеры
меня
принимают опять.
Ты, девчурочка русская
в кофточке белой,
на украшенной сцене
в саду заводском
завязала на шее моей
неумело
галстук детства и мужества
красным узлом.
И теперь я обязан
на поприще чистом
не ссылаться на старость,
не охать,
не ныть —
быть всё время,
до смертного полдня,
горнистом,
барабанщиком
нашего времени
быть.
Помню воздух,
насыщенный праздником света,
слышу туш оркестрантов,
уставших играть.
…Не могу я
доверие девочки этой
хоть едва обмануть,
хоть чуть-чуть осмеять.
1966
Дымятся и потеют лица,
гетеры старые снуют,
и гладиатор и патриций
из толстых кружек пиво пьют.
Еще пока никто не знает,
ни исполком, ни постовой,
что эта жалкая пивная
уже описана тобой.
Что эта вывеска и стены,
и ночью сторож вдоль пути
сойдут с провинциальной сцены,
чтобы в Историю войти.
1966
222. СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ФОТОАТЕЛЬЕ
Живя свой век грешно и свято,
недавно жители земли,
придумав фотоаппараты,
залог бессмертья обрели.
Что — зеркало?
Одно мгновенье,
одна минута истекла,
и веет холодом забвенья
от опустевшего стекла.
А фотография сырая,
продукт умелого труда,
наш облик точно повторяет
и закрепляет навсегда.
На самого себя не трушу
глядеть тайком со стороны.
Отретушированы души
и в список вечный внесены.
И после смерти, как бы дома,
существовать доступно мне
в раю семейного альбома
или в читальне на стене.
1966
223. СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НА ПОЧТЕ
Здесь две красотки, полным ходом
делясь наличием идей,
стоят за новым переводом
от верных северных мужей.
По телефону-автомату,
как школьник, знающий урок,
кричит заметно глуховатый,
но голосистый старичок.
И совершенно отрешенно
студент с нахмуренным челом
сидит, как Вертер обольщенный,
за длинным письменным столом.
Кругом его галдит и пышет
столпотворение само,
а он, один, страдая, пишет
свое заветное письмо.
Навряд ли лучшему служило,
хотя оно уже старо,
входя в казенные чернила,
перержавелое перо.
То перечеркивает что-то,
то озаряется на миг,
как над контрольною работой
отнюдь не первый ученик.
С той тщательностью, с тем терпеньем
корпит над смыслом слов своих,
как я над тем стихотвореньем,
что мне дороже всех других.
1966
224. «Бывать на кладбище столичном…»
Бывать на кладбище столичном,
где только мрамор и гранит,—
официально и трагично,
и скорбно думать надлежит.
Молчат величественно тени,
а ты еще играешь роль,
как тот статист на главной сцене,
когда уже погиб король.
Там понимаешь оробело
полуничтожный жребий свой…
А вот совсем другое дело
в поселке нашем под Москвой.
Так повелось, что в общем духе
по воскресеньям утром тут,
одевшись тщательно, старухи
пешком на кладбище идут.
Они на чистеньком погосте
сидят меж холмиков земли,
как будто выпить чаю в гости
сюда по близости зашли.
Они здесь мраморов не ставят,
а — как живые средь живых —
рукой травиночки поправят,
как прядки доченек своих.
У них средь зелени и праха,
где всё исчерпано до дна,
нет ни величия, ни страха,
а лишь естественность одна.
Они уходят без зазнайства
и по пути не прячут глаз,
как будто что-то по хозяйству
исправно сделали сейчас.
1966
225. В БОЛГАРСКОМ ГОРОДКЕ
Сюда, где гулом постоянным
насыщен вдоволь бедный зал,
из интуристских ресторанов
я убежденно убежал.
Там всё приборы да проборы,
манишек блеск и скатертей —
всё это мне никак не впору,
не по симпатии моей.
А тут, жуя и торжествуя,
как в царстве малом и родном,
отлично время провожу я
за плохо прибранным столом.
Сюда любые лица вхожи:
вот плотник, весел и небрит,
складной аршин, как герб вельможи,
из куртки старенькой торчит.
С ужасным перцем суп горячий
глотает жадно паренек.
В его подсумке обозначен
не для забавы молоток.
А ты, сосед с лицом убитым,
не погибай из-за любви.
Прекрасен твой пиджак из твида
и брюки белые твои.
Твоя подружка, может статься,
к тебе воротится опять, —
не надо глупо упиваться,
уж лучше глупо уповать.
Вон там, стаканы поднимая
за нашу жизнь, за наши дни,
шумит компания хмельная.
Шуми, компания, шуми!
Здесь чуть не все друг дружку знают,
тут шутки общие, свои.
И между стульями порхают,
как на бульваре, воробьи.
1966
Ленты медленно и быстро
в мокром воздухе летят
с нашей палубы на пристань
и оттудова назад.
Их берут на расстоянье,
ловят их над головой,
превращая расставанье
в некий праздник портовой.
Вот еще их больше стало, —
только ленты, как во сне.
Мне уж вовсе не пристало
оставаться в стороне.
Но средь бестолочи этой
провожающих людей
у меня, к несчастью, нету
ни знакомых, ни друзей.
…Я совсем не знаю — кто ты,
но ручаюсь целиком,
что лицо такой работы
надо делать топором.
Эти лица не ваяют,
с тонкой кистью не корпят,
а наотмашь вырубают —
так, что щепочки блестят.
Потому-то в час отхода,
колебаний не любя,
я из общего народа
выбрал именно тебя.
И в порту Иокогамы,
чтоб меня не позабыл,
я тебе, как телеграмму,
ленту длинную пустил.
Вот она неотклоненно,
хоть дождем мерцала мгла,
сквозь намокшие знамена
в руку сильную вошла.
Был я счастлив на причале
тем, что мы, как два юнца,
с наслаждением держали
этой ленты два конца.
Нам обоим ясно было,
что под небом облаков
нас она соединила
не для праздных пустяков.
Умиляться я не стану,
это стиль никак не мой.
Через волны океана
я ее везу домой.
1966