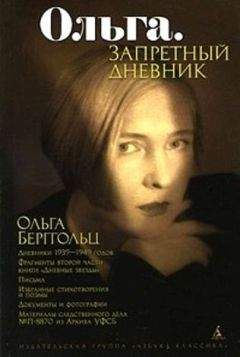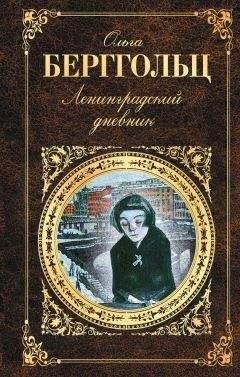Ну, пока все. Тороплюсь — надо звонить и добиваться свидания с одним важным лицом, потому что одно менее важное лицо хочет снять у меня из книжки стихи, вернее, переделать, а я ни в коем, принципиально этого не хочу допускать, ну и видишь, сколько хлопот из-за принципа. А иначе — нельзя, особенно, мне теперь, я уж могу говорить другим голосом. Писем ко мне отовсюду по поводу «Лен<инградской> поэмы» — масса, каждый день получаю, и какие! Гл<авным> образом с фронтов. Ну, пока, целую, пиши. Привет от Юры, Яши, бубновой пары. Ляля.
Не рыдай о своих ватных штанах, отвоюем, я сошью тебе бархатные с золотым галуном! Пожалуйста, пожалуйста, дорогой папа, не сокрушайся об этом барахле, неужели тебе больше не о ком в Ленинграде думать!
3
8/XII-42
Ленинград
Дорогой папа!
Получила твое письмо от 7/XI, как видишь, оно шло целый месяц. Учитывая эти темпы, надо полагать, что мое письмо, подробное, напечатанное на машинке, посланное тебе в конце октября, тоже дошло до вас. Там я писала настолько подробно обо всем, что повторять это не в состоянии, тем более, что в течение 7 месяцев я только и делаю, что пишу тебе о твоих вещах и делах. Считая, что ты тем моим письмом достаточно подготовлен к ударам и распропагандирован им же, лишь кратко повторяю.
а) дом на Палевском сломан, все твои тамошние вещи погибли. Увозить шкафы и оттоманку, и пр<очую> рухлядь мне было не на чем (блокада!) и некуда, да и незачем.
б) со Слепцовой дела судебного не начинала, т<ак> к<ак>, посоветовавшись с юристом, мы оба увидели, что у нас нет ни документов (ее расписок в приеме твоих вещей), ни надежных свидетелей, ничего вообще. Доказать, что она присвоила твои деньги только на том основании, что ты их не получил, а у нее нет квитанции — нельзя; я вон тоже посылала Молчановым[371] 500 р<уб.>, и у меня цела квитанция, а они их так и не получили, и ничего нельзя сделать.
в) заявление, поданное мною о твоем деле, как мне говорят, «разбирается», «расследуется» и т. д. Время от времени нажимаю и жду более прочного своего положения — общественного, чтоб можно было нажать покрепче. Обещают «выяснить». Но я это дело доведу до конца.
В Ленинград ни тебе, ни матери приехать пока не удастся. Во-первых, как ты уже понял и убедился, даже не имея 39 ст<атьи>, это сделать очень сложно. Чтобы приехать к нам, хотя бы из Москвы, надо, чтоб тебя вызвало сюда учреждение, по правам приравненное к обл<астному> исполкому, при этом с санкции и разрешения Военного совета или же, чтоб сам Военный совет вызвал тебя. Посуди сам, имею ли я такие возможности; учти, что наш город именуется городом-фронтом не только в стихах и что въезд сюда обычным гражданам воспрещен; и вот тебе ясно станет, что пока что мысль о возвращении в Л<енингра>д надо отложить, — помочь я в этом ничем не могу. А о том, чтоб Военный совет вызвал сюда нашу маму — просто смешно думать! Никаких же «связей» и т. п. у меня никогда не было и нет. Да и что ты, папа, тащить сюда, в Л<енингра>д, мать с Мишей, это просто на смерть, особенно зимой. Никакой столовой маме бы не дали, а что дают даже на отоваренную карточку иждивенцам — ты знаешь. У вас кило картошки — 15 р<уб.>, а у нас — 350 руб., да и то почти случайно. Суди сам, можно ли на это рассчитывать? Ты пишешь, «я бы пристроился у тебя»? Где? В радиокомитете? Но здесь услуги хирурга не нужны. Ну, жилплощадь можно было бы найти, но дрова? Керосин? Этого я вам ничего бы предоставить не смогла. А помимо всего этого, специфические неудобства города-фронта, ты понимаешь, что я имею в виду. Вот, например, Е. М. почему-то долго не звонит мне, а не так давно на той улице, где она жила, не стало дома или двух, а я забыла точный № ее дома, и уж боюсь, не тот ли самый, не ее ли? Ты пишешь, что в Чистополе много пешей ходьбы, а думаешь, у нас ее мало? Хотя считается, что № 3 трамвая ходит, Юрка почти ежедневно бегает по делам службы на Петрогр<адскую> сторону пешком. Я все это пишу не для того, чтобы убедить тебя «не ехать сюда», этого все равно сделать нельзя, а пишу для того, чтоб ты оставил мысль и перестал тосковать по Ленинграду, и смущать маму этими химерами. Ты пишешь, «в этом направлении нужно действовать», папочка, прости, это звучит трагически-смехотворно. Не могу я перетаскивать вас сейчас в Л<енингра>д, невозможно это делать, да и бессмысленно. Что я делаю и что смогу сделать? 1) Я все свои деньги по Москве отдаю Муське, чтоб она часть пересылала вам. Милая Мусинька не пишет мне с августа месяца, несмотря на все мои просьбы и мольбы. Она даже не может сообщить мне, сколько моих денег она получила и сколько из них перевела вам, а по моим подсчетам, это все же не менее 3 тысяч в общей сложности, а м<ожет> б<ыть>, даже и больше. Кроме того, 20/Х я отсюда перевела ей 400 руб., половину просила переслать вам и 2) отправила в начале ноября мануфактурно-галантерейную посылку, чтоб она переслала ее вам. Передай маме, что не надо мне ни шерсти, ничего, раз вам так туго[372], я обойдусь, возьмите все себе на пищу. Да вот говорят, что якобы у вас теперь и на мену ничего не дают, все завалено вещами, 3) дня через два переведу вам денег (в размере 500 р.) и постараюсь высылать регулярно, хотя с деньгами у меня не жирно. Знаю, дорогие мои, что вам там плохо. Да разве сейчас из вашей дыры зимой куда-либо тронешься? А, кроме того, честно говоря, везде сейчас трудно. Послушали бы вы, как воют наши киноработники, даже лауреаты и орденоносцы, живущие и работающие в Алма-Ате, Ташкенте[373] и т. д. Наша ленингр<адская> колония писателей под Пермью[374] тоже живет как вы; кроме тех, кто просто-напросто работает в колхозах на трудоднях. Однако, я узнаю, не легче ли там все-таки и нельзя ли вас перебросить туда? Спишитесь с Риной[375], м<ожет> б<ыть>, выйдет что-либо там? Молчановы в Йошкар-Оле живут тоже весьма туго[376], — в одной комнатке все 5 человек, с продовольствием скверно, но они летом копались в огородике и ходили в лес за грибами. Узнаю еще о кое-каких местах, м<ожет> б<ыть>, весной удастся вас перебросить в более хорошее место…[377] А в общем-то, вся надежда на общее улучшение положения, и последнее время как будто бы наши дела на фронтах получше. Всем и везде очень трудно! Письмо твое очень расстроило меня, одна надежда, что после того, как ты устроился, судя по телеграмме, директором поликлиники, вам стало полегче. Не думай, что я не хочу помочь вам, но что я могу сделать отсюда, из осажденного города? Единственно реальное, — постараюсь, как уже писала выше, регулярно посылать деньги.
Неск<олько> слов о себе. Живем на радио, в маленькой комнатке, но есть печка, пока дают дрова (Юрка, как и все, осенью ломал дома), есть электрический свет, пока что тепло и светло, и это уже очень много. Летом и осенью кормились прилично, т<о> е<сть> не голодали, были сыты. Сейчас положение будет сложнее, т<ак> к<ак> летом я получала так наз<ываемый> академич<еский> паек (сверх рабоч<ей> карточки 3 кило крупы, 2 кило муки, немного масла и сахару) 1 раз в мес<яц>, а теперь этого пайка не будет, остается одна раб<очая> карточка. Это менее, чем в обрез. Юра мобилизован во флот, карточки не имеет, а должен питаться на корабле, что и делает. Домой приносит только хлеб, а питание на корабле очень и очень среднее для здорового мужика. Правда, стараемся кое-что доставать, но сил на это уходит много, а результаты ничтожные, вот, например, ездил он как-то по заданию на фронт, подарили ему там маленько картошки, и так «повезло», что попал из-за этой картошки под самый обстрел… В общем, жизнь сложная и трудная, но, вспоминая прошлую зиму, мы считаем, что не имеем права жаловаться: в прошлом году в это время я уже начала опухать, и сидели мы на 125 гр<аммах> хлеба и тарелке дрожжевого супа, а в этом году все же совсем другое — 500 гр<амм> хлеба и отоваривают карточки. Юрка пока при радио и Полит<ическом> Упр<авлении> флота, что будет дальше с ним — неизвестно, но ты сам знаешь, что мобилизованный человек себе не волен. У меня со здоровьем средне, т<ак> к<ак>, видимо, опять не удастся доносить, хотя я точно выполняю все указания врачей. Но последние дни появились тревожные признаки, указывающие на возможность прекращения беременности… Ужасно мне это жаль и больше всего не нравится перспектива нашей ленинградской больницы. У Юры недавно после тяжелой болезни, разыгравшейся в результате эвакуации из Киева, а затем Харькова, умерла мать[378]. Отец[379] остался в Балашове, один, тоже болен.
Работаем много и напряженно. Меня теперь ленинградцы знают хорошо, но это приносит мне чисто моральное удовлетворение! Правда, мой райком соорудил мне русские сапожки, на предмет разъездов по фронтам, и они меня прямо спасают, т<ак> к<ак> все другое истлело; и я выступаю сейчас даже в городе в черном открытом бархатном платье и русских сапогах, а пузо занавешиваю белым шелковым платком, кот<орый> дала на время одна дама, но этот странный туалет, кажется, никого особенно не смущает. Ну, пока все. Крепко целую, деньги переведу завтра. От Юры вам обоим сердечный привет. Целую Мишу. Ваша Оля.