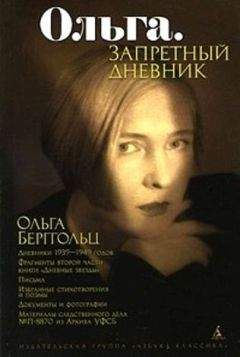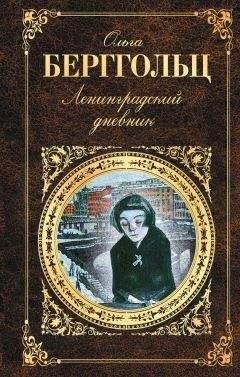11/XI-44
Ну, дорогой папа, наконец-то, кажется, ты сможешь не ворчать на меня. Вчера вечером была у прокурора города[386], который мне официально сообщил, что с тебя снята 39 статья, как ошибочно наложенная, а также вообще все остальное — постановление об адмвысылке и т. д. Теперь ты совершенно свободный и реабилитированный гражданин. Сегодня или завтра тебе должна отправить наша прокуратура официальную и авторитетную бумажку обо все этом, — у меня уже взяли твой адрес. Правда, когда я приехала из командировки[387], прокурор, который расследовал твое дело, сказал мне, что снята только 39 статья, а постановление об адмвысылке осталось, но я на этом не успокоилась, пошла к прокурору города, и, как уже написала выше, прокурор города лично еще раз занялся этим и выяснил, что и постановление об адмвысылке — тоже неправильно, и все отменил. Так что, если получишь письмо от Муси (я ей в тот же день после первого разговора с прокурором все сообщила), где она будет писать только о снятии 39, то знай, что эти сведения уже устарели.
Повторяю, справедливость восстановлена полностью, и, может быть, еще раньше, чем это письмо, ты получишь об этом справку от прокурора. В общем, дня через два я проверю, послали ли они это тебе. Но все главное — уже сделано. Обо всем остальном будем разговаривать тогда, когда ты получишь справку и на руках у тебя снова будет настоящий, чистый, справедливый документ…
Очень рада, что удалось полностью восстановить временно попранную фамильную честь и доброе имя. Подчеркиваю, что все остальное будет уже проще, но хочу предупредить, чтобы ты особенно не воспалялся, а учел, что возвращение в Ленинград все-таки еще дело сложное, но уже по другим теперь причинам. Так что потерпи еще некоторое время, не принимай опрометчивых решений и переездов, на которых ты уже не раз погорел и зря тратил силы, а раз у тебя сейчас материальное положение ничего — не торопись его менять на журавля в небе. Тем более, что, выполнив самую трудную часть дела, я лично не смогу сейчас заниматься дальнейшим. У меня самой крайне плохи дела: у меня реальная угроза — остаться без своего угла. Когда меня вселяли в эту квартиру, то уверяли, что она совершенно свободна, а теперь вдруг появились сразу две претендентки, обе страшно нахальные еврейки, у одной из которых справка на руках, что она дочь военнослужащего. Закон формально на их стороне; мне предстоит сразу два суда, причем 99 % за то, что я проиграю дело. Если же хоть одну из них ко мне вселят, то у меня пропадает вся квартира, т<ак> к<ак> комнаты сразу становятся проходными, мы вынуждены будем ютиться в одной комнате, а звукопроницаемость в квартире абсолютная, а одна еврейка — скрипачка, — ну, в общем, мне даже страшно тебе писать, что это такое будет, конец всей моей работе, да и нормальному существованию, хуже тюрьмы.
Мне, правда, обещают разные ответственные товарищи, что не дадут меня в обиду, но пока еврейки не дают мне покоя и фактически со дня приезда в Ленинград я только этим живу и занимаюсь, издергалась до предела… А конца этой истории еще не видно. Кроме того, Муська страшно нажимает на меня (не пиши им об этом ни слова), чтоб я взяла к себе мать, поскольку у них там сложилась чисто грустилинская атмосфера, а комнату мамы заселил Путиловский[388], и ее надо отбирать тоже через суд, а для этого надо еще, чтобы у мамы был вызов Ленсовета и пропуск, а это у нас вплоть до 45 года категорически приостановлено, тем более для иждивенцев, так что просто не знаю, как я из этого вылезу. А работы ужасно много, и очень ответственной и интересной, и крайне важной для всего моего будущего…
Спасибо тебе за предложение получить по твоей облигации деньги, но я даже не просмотрела ее, не до того. Потом получу и пришлю тебе на табак, пока кое-как живем. Хотелось бы написать о том, как мы провели командировку на Черном море, да тоже некогда, в общем, «трясусь»[389] все время, уж придется тебе об этом прочесть очерки в «Известиях»[390], куда мы их должны отправить послезавтра. Так что сразу без перехода на этой же машинке начинаю перепечатывать очерки… Пока, желаю здоровья. Гляди вперед «в надежде славы и добра»[391]. Сердечный привет от Юры и наши общие поздравления с благополучным окончанием твоего «дела».
Твоя Ольга.
На конверте: Тула, Криволучье, эвакогоспиталь 5383. Доктору Бергольц (так на конверте. — Н. П.) Ф. X.
Обратный адрес: Ленинград, Рубинштейна, 22, кв. 8. О. Берггольц.
6[1948][392]
Дорогой мой, хороший! Может быть, у меня нет никого на свете, кроме тебя.
Я обязана тебе всем самым лучшим, что есть во мне: жадным жизнелюбием, чувством юмора, упрямством, целомудрием чувств, даже — здоровым цинизмом.
Я так хочу, чтоб ты жил! Чтоб в годы заката были вокруг тебя розы, пуговицы[393], грибы, внуки, стихи.
Пожалуйста, слушайся врачей и знай, что все мы хотим, чтоб ты поправился и кричал бы на нас на собственной даче.
Твоя Лялька
А Юра и Андрюша[394] целуют.
На обороте письма приписка рукой О. Берггольц: «Письмо, написанное и не отданное отцу».
ГОЛОС
из воспоминаний об Ольге Берггольц
…я вмерзла в твой неповторимый лед.
О. Берггольц
ГЕОРГИЙ МАКОГОНЕНКО[395]
Фрагменты из воспоминаний «Письма с дороги»
<…> 15 декабря я вернулся с Волховского фронта. После приключений на Ладоге я не рискнул еще раз испытывать судьбу и, воспользовавшись предложением летчиков, добрался до Ленинграда на бомбардировщике. Попутный грузовик довез меня с аэродрома до угла Невского и Садовой. Заваленный сугробами Невский трудно было узнать. В городе ли Ольга Федоровна — я не знал. Позвонил из автомата на квартиру — телефон, к счастью, работал — и услышал ее голос. Застал я ее случайно: холод изгнал ее из ледяной квартиры, и она перевезла Николая к знакомым, у которых топилась печка. К себе домой она забежала на минутку за нужными вещами.
Я передал подарок из дивизии генерала Краснова — концентраты гречневой каши, кубики спрессованного какао и несколько помятый в дороге настоящий калач! Его выпекали на полевой кухне. Все это именно в тот день было более чем кстати — карточки ведь уже были сданы и выданный за два дня вперед хлеб был съеден.
Но уехать Ольге Федоровне не удалось, очередь на самолет оказалась очень большой, а шофер, обещавший перевезти через озеро, исчез…
К концу декабря болезнь Николая Молчанова приняла грозный характер. Врачи потребовали положить его в больницу. Пришлось подчиниться. Почти ежедневно быстро слабевшая Ольга Федоровна, еле волоча ноги, с трудом добиралась по занесенным улицам до больницы, с крошечным узелком и традиционным блокадным бидончиком в руках.
Значительную часть своей скудной блокадной пайки она носила в больницу. Положение больного ухудшалось с каждым днем. В январе Николай Молчанов умер.
Окаменевшую от горя, еле державшуюся на ногах от истощения, бездомную (нельзя же было оставаться в вымерзшей, покрытой инеем квартире), я привел Ольгу Федоровну в Дом радио, где мы все, сотрудники, жили на казарменном положении. Здесь ей, среди друзей, было легче. Да и бытовые условия у нас по тем временам были царские: горело электричество, топилась печка в большом кабинете председателя Радиокомитета, где мы днем и вечером работали, а по ночам спали на раскладушках и длинном, вытянутом вдоль всей стены кабинета диване. Дрова оказались под рукой — на чердаке. Наши инженеры заверили, что стропила — толстые сосновые бревна — были установлены с огромным запасом прочности, их можно выборочно спиливать. После войны мы предупредили новое начальство, что нужно восстановить военные потери. Специальная комиссия после обследования пришла к заключению, что и оставшихся стропил больше чем нужно, чтобы держалась крыша. А мы-то так экономили…
<…>
В трагических обстоятельствах, сложившихся у Ольги Берггольц, — неуклонно наступавшая дистрофия, болезнь и смерть Николая Молчанова — только работа, только ежечасное ощущение своей нужности осажденному городу, его защитникам, только ясное знание, что она выполняет долг поэта-бойца, могли ей помочь, рождали бы те духовные силы, ту нравственную стойкость, которые побеждали физическую слабость и личное горе. Так жили все сражавшиеся ленинградцы. Такой жизнью и могла только жить Ольга Берггольц. В этом был секрет сопротивляемости и выживания.
Помимо корреспондентских поездок на мне лежали другие, более ответственные обязанности. С сентября я был редактором-организатором передач на страну «Говорит Ленинград» — они проводились сразу после того, как замкнулось кольцо блокады. Со страной говорили защитники города: солдаты и матросы, рабочие и домохозяйки, ставшие самоотверженными бойцами ПВО, ученые, писатели, композиторы, прибывшие из области партизаны — все те, кто имел гражданское и моральное право говорить от имени Ленинграда. Выступала в этих передачах и Ольга Берггольц со специально написанными стихами.