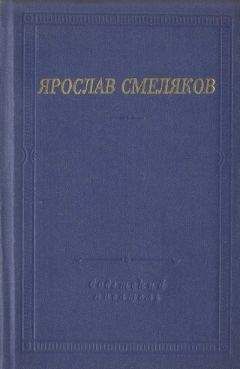240. ПО ПОВОДУ ГОЛУБЕЙ
Пока, увязнувши на треть,
скрипит планеты колесо,
она успела постареть,
твоя голубка, Пикассо.
Когда на улице светло,
любому мальчику видать:
с набитым зобом тяжело
ей подниматься и летать.
Нет блеска сокола в очах,
и нет бесстрашия орла.
Так приживалка на харчах
у благодетельниц жила.
Немало раз породу их,
когда идет киножурнал,
во фраках сизо-голубых
на ассамблеях я видал.
Не призываю воевать,
не обижаю прочих птиц, —
мне хоть бы только развенчать
ясновельможных голубиц.
1967
241. ПИСЬМО В РАЙОННЫЙ ГОРОД
Пишет Вам неизвестная личность, не знавшая Вас во времена жизни моего сына Бори Корнилова, который, как мне известно, был близким Вам другом.
Из письма Т. М. Корниловой
Где-то там, среди холмов дубравных,
в тех краях, где соловьев не счесть,
в городе Семенове неславном
улица Учительская есть.
Там-то вот, как ей и подобает,
с пенсией, как мать и как жена,
век свой одиноко коротает
бедная старушечка одна.
Вечером, небрежно и устало,
я открыл оттуда письмецо,
и опять, как в детстве, запылало
бледное недоброе лицо.
Кровь моя опять заговорила,
будто старый узник под замком.
Был ты мне, товарищ мой Корнилов
чуть ли не единственным дружком.
Мир шагал навстречу двум поэтам,
распрекрасный с маковки до пят.
Впрочем, я писал уже об этом,
пусть меня читатели простят.
Получил письмо я от старушки
и теперь не знаю, как мне быть:
может быть, пальнуть из главной пушки
или заседанье отменить?
Не могу проникнуть в эту тайну,
не владею почерком своим.
Как мне объяснить ей, что случайно
мы местами обменялись с ним?
Поменялись как, не знаем сами,
виноватить в этом нас нельзя —
так же, как нательными крестами
пьяные меняются друзья.
Он бы стал сейчас лауреатом,
я б лежал в могилке без наград.
Я-то перед ним не виноватый,
он-то предо мной не виноват.
1967
Не жалуясь нисколечко,
душой и телом чист,
лежит себе на коечке
бразильский коммунист.
Ему побриться недосуг,
о красоте забыл
мой юный брат и верный друг.
Виват тебе, Жантил!
Не ландыши и лилии
у друга на уме.
Компартия Бразилии
в подполье и тюрьме.
Поговорить в охотку нам,
хочу, чтоб рассказал,
как он в больницу Боткина
нечаянно попал.
Беседуем, как химики:
понятней и скорей
на пальцах да на мимике,
без всяких словарей.
Беседу однотемную
уж мне ли позабыть —
решеточку тюремную
легко изобразить.
Свою понурив голову,
не позабыл Жантил
дубиночки тяжелые
напудренных горилл.
Он сам, как было велено,
не посчитал за труд
приехать в школу Ленина,
в Марксистский институт.
С тобой шагаем об руку,
не остерегшись их —
ресниц святого отрока
и родинок больших.
Ведь кудри непокорные
спадают на глаза,
молниеносно-черные,
как поздняя гроза.
В том, что изобразили мы,
есть свой и смысл, и лад.
Компартия Бразилии,
виват тебе, виват!
1967
Идет слепец по коридору,
тая секрет какой-то свой,
как шел тогда, в иную пору,
армейским посланный дозором,
по территории чужой.
Зияют смутные глазницы
лица военного того.
Как лунной ночью у волчицы,
туда, где лампочка теснится,
лицо протянуто его.
Он слышит ночь, как мать — ребенка,
хоть миновал военный срок
и хоть дежурная сестренка,
охально зыркая в сторонку,
его ведет под локоток.
Идет слепец с лицом радара,
беззвучно, так же как живет,
как будто нового удара
из темноты далекой ждет.
1967
244. ДЕКАБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
Я не о той когорте братской,
нельзя какую позабыть
и что на площади Сенатской
пыталась ложу учредить.
Я не о тех лихих рубаках,
красе и гордости земли,
что шли в тюрьму, как шли в атаку,
и как потом в мундирных фраках
стремглав на виселицу шли.
Я о декабрьской Красной Пресне,
о той, где ты, Советов власть,
подобно первым строкам песни,
в пеленках красных родилась.
О той, скуластой и сутулой
(ее давно покинул бог),
что поднялась с недобрым гулом
и прах державный отряхнула
с отцовских шапок и сапог.
О той, что развернула знамя
в том белоснежном декабре
в краю Трех гор и Трех восстаний,
на перекрестке жизни ранней,
на раннеутренней заре.
1967
Внук полевой России
(ива, изба, Иван),
я увидал впервые
с палубы океан.
Это ведь не эстетство,
если она впервой,
синяя сказка детства,
движется под тобой.
Это не скрипки бала,
если тебя штормят
девять и десять баллов
целую ночь подряд.
Бахают волны сбоку,
теша тоску свою.
С жадностью одинокой
перед тобой стою.
Может быть, я не вправе
вровень с тобою жить.
Но не хочу ославить —
хочется разъяснить.
Вовсе не для присловья
с флагом над головой
мы умывались кровью,
собственной и чужой.
Там, на советской суше,
выйдя на свет из тьмы,
реквиемы и туши
перемежали мы.
Небо уже беззвездно,
вроде бы стих прибой.
Слишком, пожалуй, поздно
встретились мы с тобой.
Было б, конечно, лучше,
если б Девятый вал,
сбив, как папаху, тучи,
зыбку мою качал.
Возгласы, посвист, крики!..
Как ты там ни ори,
Тихий да и Великий
были у нас цари.
Отменены недавно
Библия и Коран.
Будем шуметь на равных,
оба в ролях заглавных,
Тихий мой океан.
1967
Уместно теперь рассказать бы,
вернувшись с поездки домой,
как в маленьком городе свадьба
по утренней шла мостовой.
Рожденный средь местных талантов,
цветы укрепив на груди,
оркестрик из трех музыкантов
усердно шагал впереди.
И слушали люди с улыбкой,
как слушают милый обман,
печальную женскую скрипку
и воинский тот барабан.
По всем провожающим видно,
что тут, как положено быть,
поставлено дело солидно
и нечего вовсе таить.
Для храбрости выцедив кружку,
но всё же приличен и тих,
вчерашним бедовым подружкам
украдкой мигает жених.
Уходит он в дали иные,
в семейный хорошенький рай.
Прощайте, балы и пивные,
вся жизнь холостая, прощай!
По общему честному мненью,
что лезет в лицо и белье,
невеста — одно загляденье.
Да поздно глядеть на нее!
Был праздник сердечка и сердца
отмечен и тем, что сполна
пронзительно-сладостным
перцем в тот день торговала страна.
Не зря ведь сегодня болгары,
хозяева этой земли,
в кошелках с воскресных базаров
пылающий перец несли.
Повсюду, как словно бы в сказке,
на стенах кирпичных подряд
одни только красные связки
венчального перца висят.
1967