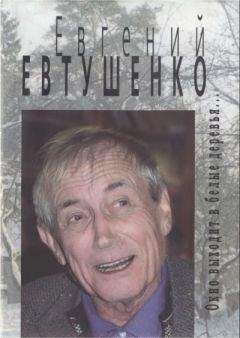АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ
Мне жизнь все менее мила,
но драгоценнее, пожалуй.
Не умирай раньше меня,
мой друг седой, мой волк поджарый.
Обобран ты, обобран я.
Предательствами я придавлен.
Не умирай раньше меня.
Умрешь — поступишь, как предатель.
Tы — пьющий mormon,
Russian — я.
У нас врагов на загляденье.
Не умирай раньше меня,
не оставляй им на съеденье.
Ты не однажды меня спас
на теплой к нам войне холодной,
но как мне холодно сейчас
в свободе нашей несвободной.
Мы быть не сможем не у дел.
Сам наш удел есть неотдельность.
Другим оставим беспредел.
Себе оставим
беспредельность.
1996
«Как трудно от мысли отделаться словом…»
Как трудно от мысли отделаться словом,
когда не под силу заснуть до утра
и с треском трепещут в тумане лиловом
тяжелые красные крылья костра.
Как трудно понять, что задумали листья
и мысли какие у дряхлого пня,
когда из беззвездности лепятся лица,
отлитые бронзовым блеском огня.
Как трудно понять, для чего на рассвете
под шелест плакучих обнявшихся ив
неспящие лошади слушают ветер,
игривые гривы устало склонив.
И просит родник: «Из меня ты напейся.
Ты губы надолго в меня опусти».
И, словно дыханье, рождается песня,
в которой слова невозможны почти.
1954–1996
Чуть-чуть мой крест,
чуть-чуть мой крестик,
ты — не на шее,
ты — внутри.
Чуть-чуть умри,
чуть-чуть воскресни,
потом опять чуть-чуть умри.
Чуть-чуть влюбись,
чуть приласкайся,
чуть-чуть побудь,
чуть-чуть забудь,
чуть-чуть обидь,
чуть-чуть раскайся,
чуть-чуть уйди,
вернись чуть-чуть.
Чуть-чуть поплачь —
любви не дольше,
как шелуха,
слети с губы,
но разлюби чуть-чуть —
не больше!
И хоть чуть-чуть не разлюби.
Март 1997 Тель-Авив
«Если снова в глазах так защиплет…»
Если снова в глазах так защиплет
от безвременных стольких смертей,
мне страшна не моя беззащитность,
а любимой и наших детей.
И никак во мне страх не растает,
если времени вопреки
на их темечках не зарастают
розоватые «роднички».
Я и сам лишь кажусь защищенным.
Убежав от пинков даровых,
я скулю беспородистым щеном
среди стольких машин дорогих.
Не прочитан я, а зачитан.
Замусолен, захватан я весь.
Кто прославленней — тот беззащитней.
Слава — самая хрупкая вещь.
Мир в осколках, как в битой посуде.
Норовя похрустеть побольней,
наступают стеклянные люди
на таких же стеклянных людей.
Что в России, себя доконавшей,
нас, быть может, сумеет спасти?
Понимание хрупкости нашей
и невечности вечности.
26 марта 1997
«Хрустальный шар прадедушки Вильгельма…»
Хрустальный шар прадедушки Вильгельма —
дар стеклодува, жившего богемно
в Лифляндии, недалеко от Риги,
где пахли тмином сладкие ковриги…
И я взлечу — лишь мне бы не мешали —
не на воздушном — на хрустальном шаре,
где выдуты внутри, так сокровенны,
как спутанные водоросли, гены.
Кто я такой? Чьим я рожден набегом?
Быть может, предок мой был печенегом.
А может быть, во мне срослись навеки
древляне, скифы, викинги и греки?
Рожден я был, назло всем узким вкусам,
поляком, немцем, русским, белорусом,
и украинцем, и чуть-чуть монголом,
а в общем-то рожден ребенком голым.
Рокочет ритм во мне, как дар Дарьяла.
Гасконское во мне от Д’Артаньяна.
У моего раскатистого стиля
фламандское от менестреля Тиля.
И как бы в мои гены ни совались,
я человек — вот вся национальность.
Как шар земной, сверкает многогенно
хрустальный шар прадедушки Вильгельма.
Россия, кто ты — Азия? Европа?
Сам наш язык — ребенок эфиопа.
И если с вами мы не из уродов,
мы происходим ото всех народов.
Апрель 1997
Как на сцене Бруклина,
разрумянясь клюквенно,
словно после банюшки,
проплывают бабушки,
песнями начинены,
словно Стенькины челны.
И с губами,
важно выпяченными,
колобками, пышно выпеченными
во архангельской печи,
с пылу,
с жару,
да со смаком,
до восьмидесяти с гаком —
обожжешься —
горячи!
Их цветастые оборки
дают шороха в Нью-Йорке.
От подобных шорохов
далеко ли до грехов!
Ой, жги,
жги,
жги…
Это пляшут бабушки!
«Я стара,
стара,
стара,
я старательная.
У меня опять пора
целовательная.
Дед,
дед,
дед,
дед,
ты чего это одет
и под одеялом?
Тебе это не прощу,
затащу и отомщу
прежним сеновалом!»
Ах,
эх,
ох,
ух —
среди женщин нет старух!
Не прожить на пенсию.
Умирать —
так с песнею!
Эх,
ах,
ух.
ох —
бабий вздох
давно издох.
Не осталось слез для глаз,
не осталось даже нас.
Что осталось?
Только пляс.
Русь,
ты довоображалась.
Вызывала раньше страх,
Вызываешь нынче жалость.
Ух,
ох,
ох,
ах!
Стыд,
Россия,
быть зазнайкой,
если стала попрошайкой,
клянча по миру у всех.
Ох,
ух,
ах,
эх!
Но склоняют с уважением
небоскребы их башки
перед русской песней женскою,
перед вами,
бабушки!
Вытирает слезы негр.
Зал набит,
а русских нет.
Нету русских.
Где они?
Никого из быв. советских,
ни посольских,
ни торгпредских —
только мы с женой одни.
На картошке,
что ли,
все?
На приехавшей «попсе»?
Как в застой за колбасой,
очереди за «попсой».
Нету русских.
Где их след?
Может, и России нет?
В сладострастной стадной неге
все они сейчас в «Карнеги»,
где визжат, как туареги,
их фанерные божки,
их бомонд,
иконостасик:
«Ты — моя банька,
я твой тазик»…
Выручайте, бабушки!
Россия-матушка
почти угроблена,
но в силе мудрого озорства,
как запасная вторая родина,
Россия-бабушка
еще жива!
1997