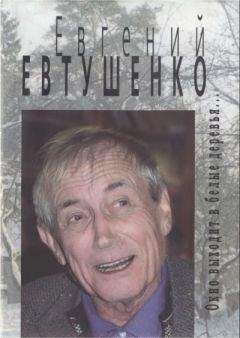ЧИТАЯ РОМЕНА ГАРИ
А поцелуй — он все длится, длится,
и невозможно пошевелиться,
и разделиться уже нельзя,
когда сливаются наши лица
и переливаются глаза в глаза.
Под небом нёба, где так бездонно,
в том теплом таинстве, где ни зги,
щепками мокрыми новорожденно
друг в друга торкаются языки.
Еще немного дай поцарюю
внутри даруемого царства губ.
У смысла жизни — вкус поцелуя.
Господь, спасибо, что ты не скуп.
Тебя, любимая, я драгоценю.
С тобой мы всюду, как в свежем сене,
где пьяно-сладостная шелестня.
Дай поцелуями мне воскресенье
и поцелуями продли меня!
Ноябрь 2002 Госпиталь в Талсе
Я на площади Ютика в Талсе
стою, как Щелкунчик,
который сбежал из балета,
посреди оклахомских степей,
посреди раскаленного лета.
Здесь привыкли ко мне,
и мой красный мундир деревянный
тем хорош, что на красном невидима кровь,
а внутри меня — рана за раной.
Мне бинтуют их,
зашивают, —
есть и поверху, есть и сквозные,
но никак она не заживает,
моя главная рана — Россия.
Поучают Россию, как будто девчонку,
в Брюсселе, Женеве.
Было стыдно, когда все боялись ее.
Стало стыдно, когда все жалеют.
Но ее поднимают на крыльях
Чайковского белые лебеди.
Он с ладони их выкормил
теплыми крошками хлебными.
Я Щелкунчик из сказки немецкой,
из музыки русской,
но давно не бродил
по таежной тропинке,
от игл и мягкой, и хрусткой.
Мне ковбой на родео сказал:
«Ты прости, я был в школе лентяем.
Где Россия?
Постой, — где-то между Германией
и… и Китаем?»
А ведь в точку попал он.
Россия действительно между,
но от этого «между»
терять нам не стоит надежду.
И однажды я вздрогнул
на площади Ютика в Талсе,
потому что с Россией на миг
с глазу на глаз остался.
Это мне городские часы
под размеренные удары
заиграли хрустально
мелодию Лары.
Жаль, что сам Пастернак не услышал той музыки,
снега рождественского искристей.
Если даже не фильм,
то ему бы понравилась Джули Кристи.
Запрещенный роман
прорывался в Россию
мелодией Мориса Жарра.
Выключали экран телевизора,
если на льду
танцевала под эту крамольную музыку пара.
Но во всех кабаках —
и в столице,
и даже в Елабуге —
тему Лары играть ухитрялись,
прикинувшись дурнями,
лабухи.
И рыдали медвежьи
опилками туго набитые чучела,
потому что,
как запах тайги,
эта музыка мучила.
И, не зная за что,
инвалиды рублевки кидали,
и мелодии этой подзванивали медали:
Если, крича,
плачу почти навзрыд,
словно свеча,
Лара в душе стоит.
Словно свеча,
в этот проклятый век,
воском шепча,
светит она сквозь снег.
И ты плачешь, Россия, плачешь
по всем, кто где-то замерз в пути.
Жгут, горячи,
слезы, как воск свечи.
Русь, ты свети!
Лара, свети, свети!
Даже кресты
плачут живой смолой.
Родина, ты
будь ради нас живой!
Мир пустоват,
если нет звезд в ночи,
и Пастернак
с Ларой, как две свечи.
И ты плачешь, Россия, плачешь,
по всем, кто где-то замерз в пути.
Жгут, горячи,
слезы, как воск свечи.
Русь, ты свети,
Лара, свети, свети!
И, скитаясь по свету,
опальный роман доскитался
до того, чтобы время показывать музыкой в Талсе.
Тихий шелест страниц запрещенных —
мой трепет российского флага.
От чего-то нас все-таки вылечил доктор Живаго.
И Щелкунчиком,
не деревянным — живым,
в нескончаемом вальсе
я кружусь вместе с Ларой
на площади Ютика в Талсе.
2000–2003
Соотечественников понесло:
так и рвутся оправдывать зло.
Так заискивают на случай
перед проволокой колючей
и готовы хоть чокнуться чаркой
с отставной человеко-овчаркой,
чтобы в будущем им повезло.
Боже мой, и какие же тонкости
в оправданье холопском жестокости!
Но Россию спасет,
как спасла
в ее смуты,
в ее лихолетия,
гордость нищего великолепия —
неоправдываемость зла.
Ноябрь 2002
«Обожествлять не надо даже Бога…»
Обожествлять не надо даже Бога.
Он тоже человек — не царь земной.
А лжи и крови так на свете много,
что можно вздумать — он всему виной.
Не сотвори из Родины кумира,
но и не рвись в ее поводыри.
Спасибо, что она тебя вскормила,
но на коленях не благодари.
Она сама во многом виновата,
и все мы виноваты вместе с ней.
Обожествлять Россию — пошловато,
но презирать ее — еще пошлей.
2003
Как я люблю эти сумерки длинные,
их перламутрово-пепельный цвет,
будто в ботинках с прилипшею глиною
тяжко бреду на неведомый свет.
Помню, как в сумерках, за огородами,
где мы играли, резвясь, как щенки,
у одноклассницы — рыженькой родины
родинку слизывал я со щеки.
Сумерки длинные, чуть серебристо-полынные
тянут в себя, зазывая, тревожа, маня.
Сам я забыл, как зовусь я по имени.
Я бы хотел, чтобы звали Россией меня.
Нету у нашей души завершения.
Рад умереть бы, да не до того.
Что же ты, жизнь моя, так завечерилась,
будто и ноченька недалеко?
Буду когда-нибудь снова мальчишкою,
встану горой за девчачью слезу,
буду играть в деревянного чижика,
родинку чью-нибудь снова слизну!
Сумерки длинные, крики вдали журавлиные,
и над колодцем скрипит журавель у плетня.
Сам я забыл, как зовусь я по имени.
Я бы хотел, чтобы звали Россией меня.
25 сентября 2003