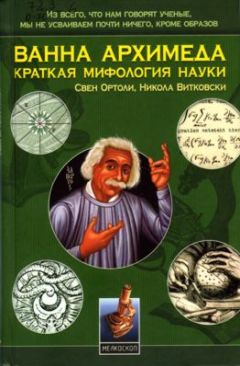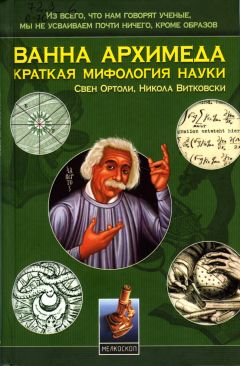Я вошёл. Машинист стоял с полотенцем в руках и говорил, а Марья Васильевна сидела на табурете и слушала. Увидя меня, машинист махнул мне рукой.
— Зравствуйте, здравствуйте, Матвей Филлипович, — сказал я ему и прошёл в ванную комнату. Пока всё было спокойно. Марья Васильевна привыкла к моим странностям и этот последний случай могла уже и забыть.
Вдруг меня осенило: я не запер дверь. А что, если старуха выползет из комнаты?
Я кинулся обратно, но вовремя спохватился и, чтобы не испугать жильцов, прошёл через кухню спокойными шагами.
Марья Васильевна стучала пальцем по кухонному столу и говорила машинисту:
— Ждорово! Вот это ждорово! Я бы тоже швиштела!
С замирающим сердцем я вышел в коридор и тут уже чуть не бегом пустился к своей комнате.
Снаружи всё было спокойно. Я подошёл к двери и, приотворив её, заглянул в комнату. Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись лицом в пол. Крокетный молоток стоял у двери на прежнем месте. Я взял его, вошёл в комнату и запер за собою дверь на ключ. Да, в комнате определенно пахло трупом. Я перешагнул через старуху, подошёл к окну и сел в кресло. Только бы мне не стало дурно от этого пока ещё хоть и слабого, но всё-таки нестерпимого запаха. Я закурил трубку. Меня подташнивало, и немного болел живот.
Ну что же я так сижу? Надо действовать скорее, пока эта старуха окончательно не протухла. Но, во всяком случае, в чемодан её надо запихивать осторожно, потому что как раз тут-то она и может тяпнуть меня за палец. А потом умирать от трупного заражения — благодарю покорно!
— Эге! — воскликнул я вдруг. — А интересуюсь я: чем вы меня укусите? Зубки-то ваши вон где!
Я перегнулся в кресле и посмотрел в угол по ту сторону окна, где, по моим расчетам, должна была находится вставная челюсть старухи. Но челюсти там не было.
Я задумался: может быть, мёртвая старуха ползала у меня по комнате, ища свои зубы? Может быть, даже, нашла их и вставила себе обратно в рот?
Я взял крокетный молоток и пошарил им в углу. Нет, челюсть пропала. Тогда я вынул из комода толстую байковую простыню и подошёл к старухе. Крокетный молоток я держал наготове в правой руке, а в левой я держал байковую простыню.
Брезгливый страх к себе вызывала эта мёртвая старуха. Я приподнял молотком её голову: рот был открыт, глаза закатились кверху, а по всему подбородку, куда я ударил её сапогом, расползлось большое тёмное пятно. Я заглянул старухе в рот. Нет, она не нашла свою челюсть. Я опустил голову. Голова упала и стукнулась об пол.
Тогда я расстелил по полу байковую простыню и подтянул её к самой старухе. Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок на спину. Теперь она лежала на простыне. Ноги старухи были согнуты в коленях, а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на неё орла. Скорее, прочь эту падаль!
Я закатал старуху в толстую простыню и поднял её на руки. Она оказалась легче, чем я думал. Я опустил её в чемодан и попробовал закрыть крышкой. Тут я ожидал всяких трудностей, но крышка сравнительно легко закрылась. Я щелкнул чемоданными замками и выпрямился.
Чемодан стоит перед мной, с виду вполне благопристойный, как будто в нем лежит белье и книги. Я взял его за ручку и попробовал поднять. Да, он был, конечно, тяжёл, но не чрезмерно, я мог вполне донести его до трамвая.
Я посмотрел на часы: двадцать минут шестого. Это хорошо. Я сел в кресло, чтобы немного передохнуть и выкурить трубку.
Видно, сардельки, которые я ел сегодня, были не очень хороши, потому что живот мой болел всё сильнее. А может быть, это потому, что я ел их сырыми? А может быть, боль в животе была и чисто нервной.
Я сижу и курю. И минуты бегут за минутами.
Весеннее солнце светит в окно, и я жмурюсь от его лучей. Вот оно прячется за трубу противостоящего дома, и тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Я вспоминаю, как вчера в это же время я сидел и писал повесть. Вот она: клетчатая бумага и на ней надпись, сделанная мелким почерком: — «Чудотворец был высокого роста».
Я посмотрел в окно. По улице шёл инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Двое рабочих и с ними старуха, держась за бока, хохотали над смешной походкой инвалида.
Я встал. Пора! Пора в путь! Пора отвозить старуху на болото! Мне нужно ещё занять деньги у машиниста.
Я вышел в коридор и подошёл к его двери.
— Матвей Филлипович, вы дома? — спросил я.
— Дома, — ответил машинист.
— Тогда, извините, Матвей Филлипович, вы не богаты деньгами? Я послезавтра получу. Не могли ли бы вы мне одолжить тридцать рублей?
— Мог бы, — сказал машинист. И я слышал, как он звякал ключами, отпирая какой-то ящик. Потом он открыл дверь и протянул мне новую красную тридцатирублевку.
— Большое спасибо, Матвей Филлипович, — сказал я.
— Не стоит, не стоит, — сказал машинист.
Я сунул деньги в карман и вернулся в свою комнату. Чемодан спокойно стоял на прежнем месте.
— Ну теперь в путь, без промедления, — сказал я сам себе.
Я взял чемодан и вышел из комнаты.
Марья Васильевна увидела меня с чемоданом и крикнула:
— Куда вы?
— К тётке, — сказал я.
— Шкоро приедете? — спросила Марья Васильевна.
— Да, — сказал я. — Мне нужно только отвезти к тётке кое-какое бельё. А приеду, может быть, и сегодня.
Я вышел на улицу. До трамвая я дошёл благополучно, неся чемодан то в правой, то в левой руке.
В трамвай я влез с передней площадки прицепного вагона и стал махать кондукторше, чтобы она пришла получить за багаж и билет. Я не хотел передавать единственную тридцатирублевку через весь вагон, и не решался оставить чемодан и сам пройти к кондукторше. Кондукторша пришла ко мне на площадку и заявила, что у неё нет сдачи. На первой же остановке мне пришлось слезть.
Я стоял злой и ждал следующего трамвая. У меня болел живот и слегка дрожали ноги.
И вдруг я увидел мою милую дамочку: она переходила улицу и не смотрела в мою сторону.
Я схватил чемодан и кинулся за ней. Я не знал, как её зовут, и не мог её окликнуть. Чемодан страшно мешал мне: я держал его перед собой двумя руками и подталкивал его коленями и животом. Милая дамочка шла довольно быстро, и я чувствовал, что мне её не догнать. Я был весь мокрый от пота и выбивался из сил. Милая дамочка повернула в переулок. Когда я добрался до угла — её нигде не было.
— Проклятая старуха! — прошипел я, бросая чемодан на землю.
Рукава моей куртки насквозь промокли от пота и липли к рукам. Двое мальчишек остановились передо мной и стали меня рассматривать. Я сделал спокойное лицо и пристально смотрел на ближайшую подворотню, как бы поджидая кого-то. Мальчишки шептались и показывали на меня пальцами. Дикая злоба душила меня. Ах, напустить бы на них столбняк!
И вот из-за этих паршивых мальчишек я встаю, поднимаю чемодан, подхожу с ним к подворотне и заглядываю туда. Я делаю удивлённое лицо, достаю часы и пожимаю плечами. Мальчишки издали наблюдают за мной. Я ещё раз пожимаю плечами и заглядываю в подворотню.
— Странно, — говорю я вслух, беру чемодан и тащу его к трамвайной остановке.
На вокзал я приехал без пяти минут семь. Я беру обратный билет до Лисьего Носа и сажусь в поезд.
В вагоне, кроме меня, ещё двое: один, как видно, рабочий, он устал и, надвинув кепку на глаза, спит. Другой, ещё молодой парень, одет деревенским франтом: под пиджаком у него розовая косоворотка, а из-под кепки торчит курчавый кок. Он курит папироску, всунутую в ярко-зеленый мундштук из пластмассы.
Я ставлю чемодан между скамейками и сажусь. В животе у меня такие рези, что я сжимаю кулаки, чтобы не застонать от боли.
По платформе два милиционера ведут какого-то гражданина в пикет. Он идёт, заложив руки за спину и опустив голову.
Поезд трогается. Я смотрю на часы: десять минут восьмого.
О, с каким удовольствием спущу я эту старуху в болото! Жаль только, что я не захватил с собой палку, должно быть, старуху придётся подталкивать.
Франт в розовой косоворотке нахально разглядывает меня. Я поворачиваюсь к нему спиной и смотрю в окно.
В моём животе происходят ужасные схватки; тогда я стискиваю зубы, сжимаю кулаки и напрягаю ноги.
Мы проезжаем Ланскую и Новую Деревню. Вон мелькает золотая верхушка Буддийской пагоды, а вон показалось море.
Но тут я вскакиваю и, забыв всё вокруг, мелкими шажками бегу в уборную. Безумная волна качает и вертит моё сознание…
Поезд замедляет ход. Мы подъезжаем к Лахте. Я сижу, боясь пошевелиться, чтобы меня не выгнали на остановке из уборной.
— Скорее бы он трогался! Скорее бы он трогался!
Поезд трогается, и я закрываю глаза от наслаждения. О, эти минуты бывают столь же сладки, как мгновения любви!