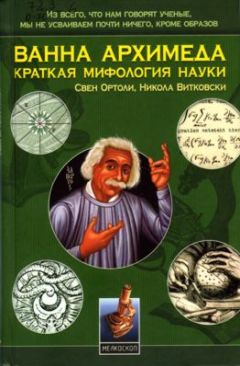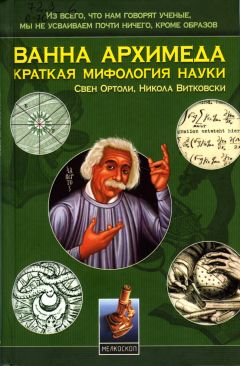Поезд трогается, и я закрываю глаза от наслаждения. О, эти минуты бывают столь же сладки, как мгновения любви!
Все силы мои напряжены, но я знаю, что за этим последует страшный упадок.
Поезд опять останавливается. Это Ольгино. Значит, опять эта пытка!
Но теперь это ложные позывы. Холодный пот выступает у меня на лбу, и лёгкий холодок порхает вокруг моего сердца. Я поднимаюсь и некоторое время стою, прижавшись головой к стене. Поезд идёт, и покачиванье вагона мне очень приятно.
Я собираю все свои силы и пошатываясь выхожу из уборной.
В вагоне нет никого. Рабочий и франт в розовой косоворотке, видно, слезли на Лахте или в Ольгино. Я медленно иду к своему окошку.
И вдруг я останавливаюсь и тупо гляжу перед собой. Чемодана, там, где я его оставил, нет. Должно быть, я ошибся окном. Я прыгаю к следующему окошку. Чемодана нет. Я прыгаю назад, вперед, я пробегаю вагон в обе стороны, заглядываю под скамейки, но чемодана нигде нет.
Да, разве можно тут сомневаться? Конечно, пока я был в уборной, чемодан украли. Это можно было предвидеть!
Я сижу на скамейке с вытаращенными глазами, и мне почему-то вспоминается, как у Сакердона Михайловича с треском отскакивала эмаль от раскалённой кастрюльки.
— Что же получилось? — спрашиваю я сам себя. — Ну кто теперь поверит, что я не убивал старуху? Меня сегодня же схватят, тут же или в городе на вокзале, как того гражданина, который шёл, опустив голову.
Я выхожу на площадку вагона. Поезд подходит к Лисьему Носу. Мелькают белые столбики, окружающие дорогу. Поезд останавливается. Ступеньки моего вагона не доходят до земли. Я соскакиваю и иду к станционному павильону. До поезда, идущего в город, ещё полчаса.
Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника. За ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда.
По земле ползёт большая зелёная гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю её пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону.
Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине.
Я низко склоняю голову и негромко говорю:
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
* * *
На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась.
На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась.
Конец мая и первая половина июня 1939
Ты устал от любовных утех,
Надоели утехи тебе!
Вызывают они только смех
На твоей на холеной губе.
Ты приходишь печальный в отдел,
И отдел замечает, что ты
Побледнел, подурнел, похудел,
Как бледнеть могут только цветы!
Ты — цветок! Тебе нужно полнеть,
Осыпаться пыльцой и для женщин цвести.
Дай им, дай им возможность иметь
Из тебя и венки и гирлянды плести.
Ты как птица, вернее, как птичка
Должен пикать, вспорхнувши в ночи.
Это пиканье станет красивой привычкой…
Ты ж молчишь… Не молчи… Не молчи
1926
Жареная рыбка,
Дорогой карась,
Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась?
Жареная рыба,
Бедный мой карась,
Вы ведь жить могли бы,
Если бы не страсть.
Что же вас сгубило,
Бросило сюда,
Где не так уж мило,
Где — сковорода?
Хохотали вы,
Хохотали звонко
Под волной Невы.
Карасихи-дамочки
Обожали вас —
Чешую, да ямочки,
Да ваш рыбий глаз.
Бюстики у рыбок —
Просто красота!
Трудно без улыбок
В те смотреть места.
Но однажды утром
Встретилася вам
В блеске перламутра
Дивная мадам.
Дама та сманила
Вас к себе в домок,
Но у той у дамы
Слабый был умок.
С кем имеет дело,
Ах, не поняла, —
Соблазнивши, смело
С дому прогнала.
И решил несчастный
Тотчас умереть.
Ринулся он, страстный.
Ринулся он в сеть.
Злые люди взяли
Рыбку из сетей,
На плиту послали
Просто, без затей.
Ножиком вспороли,
Вырвали кишки,
Посолили солью,
Всыпали муки…
А ведь жизнь прекрасною
Рисовалась вам.
Вы считались страстными
Попромежду дам…
Белая смородина,
Черная беда!
Не гулять карасику
С милой никогда.
Не ходить карасику
Теплою водой,
Не смотреть на часики,
Торопясь к другой.
Плавниками-перышками
Он не шевельнет.
Свою любу «корюшкою»
Он не назовет.
Так шуми же, мутная
Невская вода.
Не поплыть карасику
Больше никуда.
1927
Ниточка, иголочка,
Булавочка, утюг.
Ты моя двуколочка,
А я твой битюг
Ты моя колясочка,
Розовый букет,
У тебя есть крылышки,
У меня их нет.
Женщинам в отличие
Крылышки даны!
В это неприличие
Все мы влюблены.
Полюби, красавица,
Полюби меня,
Если тебе нравится
Песенка моя.
(1928)
Короткое объяснение в любви
Тянется ужин.
Блещет бокал.
Пищей нагружен,
Я задремал.
Вижу: напротив
Дама сидит.
Прямо не дама,
А динамит!
Гладкая кожа.
Ест не спеша…
Боже мои, Боже,
Как хороша!
(1928)
К.И. Чуковскому от автора
I
Муха жила в лесу,
Муха пила росу,
Нюхала муха цветы
(Нюхивал их и ты!).
Пользуясь общей любовью,
Муха питалась кровью.
Вдруг раздается крик:
Муху поймал старик.
Был тот старик паук —
Страстно любил он мух.
II
…Жизнь коротка, коротка,
Но перед смертью она сладка…
Видела муха лес,
Полный красот и чудес:
Жук пролетел на закат,
Жабы в траве гремят,
Сыплется травка сухая.
· · · · · · · · ·
Милую жизнь вспоминая,
Гибла та муха, рыдая.
III
IV
Доедает муху паук.
У него 18 рук.
У нее ни одной руки,
У нее ни одной ноги.
Ноги сожрал паук,
Руки сожрал паук.
Остается от мухи пух.
Испускает тут муха дух.
V
Жизнь коротка, коротка,
Но перед смертью она сладка.
Автор!
(1929)
Таракан попался в стакан
Достоевский
Таракан сидит в стакане.
Ножку рыжую сосет.
Он попался Он в капкане
И теперь он казни ждет
Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят
У стола лекпом хлопочет,
Инструменты протирая,
И под нос себе бормочет
Песню «Тройка удалая».
Трудно думать обезьяне,
Мыслей нет — она поет.
Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет
Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша…
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует
Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья
Против выводов науки
Невозможно устоять
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать
Вот палач к нему подходит,
И, ощупав ему грудь,
Он под ребрами находит
То, что следует проткнуть
И, проткнувши, на бок валит
Таракана, как свинью
Громко ржет и зубы скалит,
Уподобленный коню
И тогда к нему толпою
Вивисекторы спешат
Кто щипцами, кто рукою
Таракана потрошат.
Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента
От увечий и от ран
Помирает таракан
Он внезапно холодеет,
Его веки не дрожат
Тут опомнились злодеи
И попятились назад.
Все в прошедшем — боль, невзгоды.
Нету больше ничего.
И подпочвенные воды
Вытекают из него.
Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: «Папа, папа!»
Бедный сын!
Но отец его не слышит,
Потому что он не дышит.
И стоит над ним лохматый
Вивисектор удалой,
Безобразный, волосатый,
Со щипцами и пилой.
Ты, подлец, носящий брюки,
Знай, что мертвый таракан —
Это мученик науки,
А не просто таракан.
Сторож грубою рукою
Из окна его швырнет,
И во двор вниз головою
Наш голубчик упадет.
На затоптанной дорожке
Возле самого крыльца
Будет он, задравши ножки,
Ждать печального конца.
Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать.
(1934)