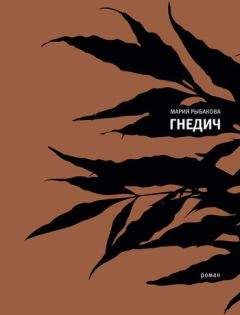Я лишь следовал за Петиным.
В наш бедный век
каждый мог стать героем,
не отходя от Кузнецкого моста, не вылезая из коляски, —
но не каждый им стал,
лишь Петин.
Погибнув так рано, что он пропустил?
Этот поворот головы в тридцать с чем-то,
взгляд на прошлое, который способен родить
одно чудовище: опытность.
В Юрбурге раненый я лежал на соломе
и смотрел, как врачи
перевязывают рану Петина,
и думал только: он жив, он жив.
Даже теперь,
стоит упасть на солому,
я начинаю надеяться против надежды: он жив;
только потом вспоминаю
(что это с памятью – камень, ручей, колокольчик,
ветер в кустах, краски неба
вдруг заставляют поверить,
что прошлое все еще длится...
Этот мир создан лишь для того, мой Постум,
чтобы нас обмануть)
я видел его могилу и плакал над нею
я поставил простой деревянный крест
я просил священника сохранить ограду
Имя Петина пропадет,
ведь он так и не совершил ничего,
что заставляет людей превозносить
или хулить кого-то после смерти;
для земного бессмертия нужны подвиги,
слава или злодейство, —
но ведь есть и другое бессмертие.
(Он закрыл лицо руками.)
Мертвые – не ничто; они суть нечто; и души
сильнее, чем жар
погребальных костров, —
когда я плыл из Англии,
море было свинцовым,
чайки кричали
о любви к морякам,
как оставленные на суше невесты (но лгали),
я искал звезды севера, Полярную звезду,
палуба качалась и баюкала нас,
веки смыкались,
и вдруг – я вздрогнул – рядом стоял Петин:
без увечья, без крови, без смерти;
он улыбался,
как будто похороны и плач
мне лишь приснились,
а он пришел меня разбудить.
Это было так хорошо,
я хотел пожать ему руку,
но схватил лишь воздух... —
...И Батюшков говорил о том, как море успокоилось,
как звезды стали ярче и палуба почти не качалась,
но сердце билось, предсказывая крушение.
Гнедич смотрел в угол —
туда, где темнота совсем сгустилась, —
и видел там очертания человека,
который был плотен своей бесплотностью.
Человек приложил палец к губам,
чтобы Гнедич не проговорился
о присутствии третьего в этой комнате,
и Гнедич пошел спать,
радуясь, что друзья нас не покидают
и что он хранилище этой тайны.
Он заснул, как только щека коснулась подушки,
и проспал без сновидений
сквозь петушиные крики и мычанье коров.
Утром все было залито светом.
Он проснулся, вышел на балкон, посмотрел на сад.
Осенние цветы поднимали головы,
ждали, что их срежут,
мертвые спали в своих могилах
и смерть-сестра,
улыбаясь, глядела на братьев.
Он взял в прихожей
записку с подноса и развернул ее.
Она была от Семеновой;
и отчего-то он не узнал ее имя,
хотя видел его много раз.
Это был тот же почерк:
длинные тонкие буквы,
неуверенные, чуть-чуть с наклоном,
как будто писал подросток,
все та же бумага,
тонкая, с водяными знаками, —
но почему незнакомо имя?
Ее письма он всегда распечатывал с содроганием,
а теперь не содрогнулся.
Буквы из магических знаков стали
русским алфавитом.
Это было имя женщины,
которую он разлюбил.
Которую он разлюбил —
и она звала его
утром прийти, чтобы дать ей
еще один урок декламации.
Семинаристом
он изобрел свою собственную
науку трагической речи,
становясь не собою,
но тенью героя, погибшего на войне,
или мачехой, влюбленной в пасынка,
одним из многих погибших, но живущих
в погребальных декорациях театров,
где приподнимается занавес
между нашей жизнью и жизнью вечной.
Когда он становился богом или женщиной,
он знал, что та жизнь, которая ему выпала, —
всего лишь глава
в большой и толстой книге возможностей.
Поднимаясь на цыпочки, обращая лицо к небу,
он захватывал голосом зал.
(Голос шел из груди – не из горла —
и в конце концов артерия порвалась
и убила его.)
Красавица
тоже поднималась на цыпочки,
обращала лицо к небу,
и небо смотрелось в это лицо,
как в свое отражение.
Он надел толстую петербургскую шубу
и пошел к ее дому, не нанимая извозчика.
Дворники не успевали разгрести снег,
который выпал за ночь.
Утром уже горели фонари,
обозначая пунктиром длину улиц;
все было серым и ватным.
Он нес
душу, как засыпающего светляка,
по незнакомым улицам.
(Раньше он знал их досконально,
каждый дом был пропитан
ожиданием встречи с Семеновой
или переживаньем последней встречи.)
Шагая, он слышал крики извозчиков,
которые доносились из мира,
где укрывают ноги овчиной,
что помнит теплое тело овцы,
где пьют чай в трактире,
обхватывая чашку огромными пальцами,
где женятся и бьют этих жен,
где крестят детей
и вопят над покойниками,
где никто не слыхал о Приаме
и о пышном граде Приама.
Гнедич кутался в шубу
и спешил мимо собственной жизни
дать урок декламации женщине,
которую он разлюбил.
Давно, когда в Харькове
стояли страшные морозы,
школьниками они убежали с урока,
пошли в рощу
стряхивать снег
с еловых лап.
Тяжкий звук
снега... ветвь,
освобожденная,
взмывает,
под деревом человеческий профиль;
сюда, сюда! кто это? крестьянка,
под слоем снега
восковое лицо только видно;
они – бежать,
оставляя ее
в тишине леса
в белизне.
Он отдал шубу и шляпу
слуге с раскрасневшимися щеками.
Его уже ожидали.
Он прошел в салон.
Семенова полулежала на кушетке;
тщательно завитые волосы
были небрежно взбиты,
лента обвивала лоб, шаль ниспадала с плеч;
она была похожа на статую,
которая вот-вот сойдет с пьедестала,
но никогда не сойдет.
Он прикоснулся губами к руке
и был встречен полуулыбкой.
Сердце есть орган бесконечности,
потому что
даже самый маленький его осколок
можно опять разбить.
Он опустился на тонконогий стул.
С тех пор, как он впервые увидел ее на сцене,
всегда было как бы две Семеновых —
и даже когда любовь почти убивала его,
они не сливались в одну —
была богиня и была хуторянка,
чей бабий вой
делал неожиданно страшным
монолог Поликсены;
но сейчас она была не баба и не богиня,
а кто-то, кого он еще не встречал.
Он сказал: у меня есть идея для пьесы.
Она отложила в сторону французскую книжку
и вопросительно подняла бровь.
За окнами пошел снег и в комнате потемнело;
вошел слуга и поставил медный подсвечник на стол.
И слова падали, подобно снегу,
на ковер возле кресел и у камина;
он понимал что никогда не напишет трагедию —
что слова убивают ее, но продолжал говорить,
потому что Семенова слушала:
пусть Гектор ищет жену все первое действие,
пусть блуждает в лабиринтах дворца,
в длинных коридорах,
принимая то сестру, то служанку за Андромаху
пусть видит свою ошибку, и снова ищет,
и боится, что не найдет,
потому что перерыв между битвами короток,
и каждая битва может стать последней;
только в самом конце первого акта
он увидит ее на стене;
она стоит спиной к нам;
весь день она точно так же
искала глазами мужа на поле битвы,
искала его посреди шатров и палаток,
искала и не находила.
Снег повалил густыми хлопьями
внесли еще свечей (он заметил,
что слуга был обут в мягкие тапочки
и ступал неслышно).
Во втором акте Андромаха говорит:
тебя убьют, меня отведут в плен,
не уходи на сраженье останься со мной. —
Но если я останусь разве судьба изменится?
Илион погибнет и я погибну,
потому я снова должен идти на битву.
Семенова сказала: не понимаю
и Гнедич замялся, не зная, как объяснить
эту железную необходимость,
похожую на любовь,
которую знают только герои.
А третий акт?
Тут он вздрогнул,
потому что совсем забыл,
что хотел изобразить в конце пьесы.
Все было стерто, занесено снегом.
Она смотрела на него с улыбкой,
от которой ее классические черты
становились менее правильными
(поэтому она редко смеялась).
Она попросила: почитайте мне, —
и протянула ему книжку. —
Сказки подходят для этого времени года,
вы не находите. – Он читает ей сказку
о красавице, спящей в лесу,
о терновнике и шиповнике,
переплетающих ветви,
о принце, который пробирается сквозь чащобу
и видит слуг, которые не успели
допить вино из бокала,
видит, как попугай спит в клетке,
как собачонка свернулась у кровати;
сам он был этим принцем,
когда ему было двенадцать, в зимнем
украинском лесу;
восковое лицо крестьянки,