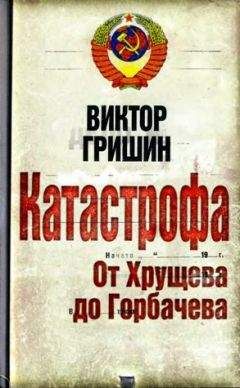С соседней веранды звучит.
Нет радости, – да и зачем она?
Люблю ту холодную грусть,
Что девочка с личиком демона
Разыгрывает наизусть…
Аккорды рыдванами тащатся
И глохнут – застряли в пути,
И всё это трелью вертящейся
Вплотную ко мне подлетит,
И всё это облаком музыки
Осядет со мной на скамью,
Как жук, расправляющий усики,
Садится на лампу мою…
А утром я всё, что запишется
Из схваченного на лету,
Отмечу презрительной ижицей
И, бледный, нырну в суету…
1935
Ничего
Пусть судьба меня бьет, – ничего!
В этом нет хвастовства и снобизма.
Это слово, – недаром его,
Говорят, повторял даже Бисмарк…
И сегодня, смертельно устав
От любовного странного бреда,
Повторяю, как некий устав:
«Ничего! Еще будет победа…
Ничего! Мы еще поживем,
Жизнь укусим железною пастью,
Насладимся и женским огнем,
И мужскою спокойною властью».
Так, владея собой до конца,
В простодушно веселой гордыне,
Льется голос большого певца,
Сотрясая сердца и твердыни…
А когда мы споем свою роль,
С честью выступив в этом концерте, –
«Ничего» – притупит нашу боль,
«Ничего» – примирит нас со смертью…
1935
«Я этого ждал…»
Я этого ждал
за подъемом,
за взлетом –
паденье…
Я неразговорчив с тобой
и подчеркнуто сух.
Но – видишь? –
у глаз
западают
глубокие тени –
знак верный,
что ночь я не спал
и что мечется дух.
Ты тоже, что я,
ты плывешь
на обломке былого
по мутным волнам
настоящего
серого дня.
Так вот почему
я тебя
понимаю с полслова.
Так вот почему
ты порой
ненавидишь меня.
Я с ужасом жду,
что в любую минуту
при встрече
ты
словом холодным
во мне
заморозишь весну.
Я вздрогну от боли,
но
око за око
отвечу
и ясностью взгляда
и плетью рассудка
хлестну.
Но, снова оттаяв
всем сердцем
к тебе повлекуся…
Ужасна любовь
у холодных
и горьких людей!
У них
поцелуй –
самый нежный –
подобен укусу
и каждое слово
осиного жала
больней…
1937
Встреча
Бездумный, бездомный,
С тоской: побывать бы в Москве, –
Я завтрак свой скромный
Заканчивал как-то в кафе…
Вдруг с улицы кто-то
Согбенно ко мне подошел…
Что мне за охота,
Чтоб нищий торчал над душой!
Я вынул десятку,
Десятку военных времен,
И сунул, как взятку,
В надежде – отвяжется он.
Наивно я думал,
Что он отойдет от души…
Он смотрит угрюмо,
Десятку хватать не спешит.
Вгляделся я ближе,
Скривясь, в маскарад нищеты
И с трепетом вижу:
Знакомые всплыли черты…
Приятель как будто
В былом, а теперь не узнать…
Сережа… Не буду
Фамилию припоминать!
Читаю стихи я,
Бывало, а он говорит:
– «Спасти бы Россию!»
– «Россия!» – я вторю навзрыд.
«Давно ль это было?»
– Лет семь или восемь назад.
Неужто те силы
Иссякли? Неужто – закат?..
И в нищенской маске
Я что-то свое узнаю…
«Вот вам и развязка», –
Шепчу я и тихо встаю.
Ни слова, ни звука
Ему мне сказать не нашлось…
А на сердце – скука,
Тягучая скука без слез!
Всё видя, всё зная,
Себе мы не в силах помочь.
Вся жизнь как сплошная -
Одна – бесконечная ночь!
1940
Пианистка
Она была вне этого закона…
В Шопена вкладывала мятежи,
Бряцанье шпор и неподдельный гонор
Без тени самомнения и лжи.
А нынче в браке состоит бесславном
За торгашом, который в меру гнил
И в меру стар… Ну что она нашла в нем!
Еще смела. Еще в глазах – огни,
Еще в походке – трепет и движенье…
Надлома нет. Но он произойдет!..
Непостижимое соединенье
Высот нагорных с гнилями болот!..
Подходит лимузин: садится рядом.
Давлю во рту проклятие свое…
Что перед этим двойственным парадом
Я, безработный, любящий ее!
Она была вне этого закона
Продаж и купль…
Да, ошибался я…
Что ж, надо постараться жить без стона,
Презрение навеки затая…
1940
В такие дни…
В такие дни – мне быть или не быть? –
Вопрос пустой, вопрос второстепенный.
В такие дни вопрос моей судьбы
Решаться должен просто и мгновенно…
Как много братьев нынче полегло!..
Из них любой, любой – меня ценнее,
Но смертной тьмою их заволокло
За родину, за честность перед нею!
В такие дни, дни стали и свинца,
Мне кажется: – включившись в гул московский,
И Гумилев сражался б до конца
В одной шеренге с Блоком, с Маяковским,
А если б он включился в стан врагов
И им отдал свое литое слово, –
Тогда не надо нам его стихов,
Тогда не надо нам и Гумилева!
Ноябрь 1941
Как писать?
Всем миром правят пушки…
О, как писать бы лучше?
Писал чеканно Пушкин,
Писал прозрачно Тютчев.
Учись у них не очень,
Но простотой не брезгуй…
Пусть будет стих отточен
До штыкового блеска.
Бери слова по росту,
Переливай их в пули.
Пиши предельно просто,
Без всяких загогулин.
А – главное – пусть копит
Душа суровый опыт
Лихой зимы военной
С победой непременной, –
Чтоб быть всегда живою,
Навеки боевою!
<1941>
Родина
Людям-птахам мнится жизнь змеею,
Скользкой, без хребта.
Ну, а я? И сам я был – не скрою –
В сонме этих птах.
Впрочем, нынче я уже не птаха,
Хоть порой пою
Про былое, скомканное страхом,
Про тоску мою.
Подколодная напасть боится,
Хоть она жадна
До такой, как я, мудреной птицы,
Падавшей до дна,
Но потом вздымавшейся в полете,
Что твоя душа,
Словно не сидела на болоте,
Перья вороша,
Словно не шарахалась по-рабьи,
Пряча в крылья грудь,
Словно не шептала: «Ах, пора бы
Мне бы отдохнуть!»
Страх змеиный мне не гнет колена,
И живу – живой…
Отчего такая перемена?
Гордость – отчего?
Оттого что и в плену болота,
И в тисках тоски
Родины работы и заботы
Стали мне близки…
1942
Город и годы
Мне город дается:
рю,
руты
и стриты кривые;
я в их лабиринте
одиннадцать лет
проплутал.
Мне годы даются
гремящие,
сороковые ,
кровавый сумбур,
что судьбиной
и опытом стал.
Мне сердце дается
живое,
но мир-кровопийца
в тиски
леденящей тоски
мое сердце берет.
Оно не сдается,
оно не умеет не биться,
срывается с петель
и все-таки
рвется вперед…
Я в городе этом,
как в стоге –
помельче иголки,
бродил, ошарашен,
среди зазывал
и менял.
Хозяева жизни –
надменные рыси и волки
сновали победно
и рыскали
мимо меня.
Притонодержателей кланы,
шакальи альянсы…
А я всё тоскую о Наде
любимой,
о ней,
что тоже любила,
но после…
ушла к итальянцу
за лиры,
что были
влиятельней
лиры моей…
От многих ударов
в висках –
преждевременно –
проседь…
Да, не без ушибов
закончилась
жизни глава!
Но мчащимся сердцем
я с теми,
кто свергнет
и сбросит
бессмыслицы гнет,
под которым и я изнывал.
Субтропиков небо
над городом этим
нависло…
Но именно там
полюбилось мне слово:
борьба.
И мой это город,
хоть многое в нем
ненавистно,
мои это годы,
моя это боль
и судьба!..
Мне город дается –
в бурнусах
из ткани мешковой
сутулятся кули
под солнцем,
палящим сверх мер.
Мне годы даются –
марксизма
и мужества школа,
заочный зачет мой
на гра́жданство
СССР..
1943
Шанхай – 1943
Я утро каждое хожу в контору
На Банде…
Что такое этот Банд?
Так Набережная зовется тут…
Над грязной и рябой рекой – дома
Массивные, литые из гранита,
С решетками стальными, словно тюрьмы,
Хранилища всевластных горьких денег,
Определяющих судьбу людскую,
Людей вседневное существованье,
Их хлеб, их свет, их душу, их житье,
Их смертное отчаянье порою,
Угодливую рабскую улыбку,
Дрожание холодных мокрых рук…
Когда-то мне казалось, что возможно
Ходить на Банд и душу сохранить,
Ходить на Банд, а по ночам творить
Свой собственный, особый мир из песен,
Из сложных и узорчатых страстей,
Из смутных, неосознанных порой
Порывов и вожделений…
Я был наивен – в этом признаюсь.
Хотя признанье это ранит душу,
Верней, лохмотья, что еще трепещут
На месте том, где реяла душа
И где теперь остался лишь бесперый,
Бескрылый мучающийся комок –
Лишь след, лишь тень крылатого когда-то
И гордого когда-то существа…
Я поутру встаю и умываюсь.
Мне леденит вода лицо и руки.
Потом глотаю тепловатый чай,