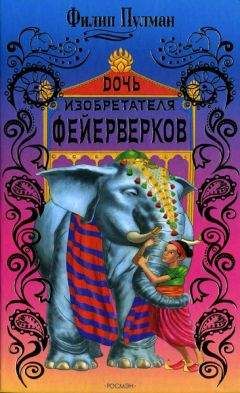1935
1
Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.
— Знаешь, Юлька, я — против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня — лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет…
Знаешь, Юлька, я — против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: «Выступать вперед!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.
2
С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.
Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы —
Мы хотели со славой жить.
…Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав…
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
3
— Знаешь, Зинка, я — против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живет.
У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
…Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!
1944
О свадьбы в дни военные!
Обманчивый уют,
слова неоткровенные
о том, что не убьют…
Дорогой зимней, снежною
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу
на свадьбу спешную
в соседнее село.
Походочкой расслабленной,
с челочкой на лбу
вхожу,
плясун прославленный,
в гудящую избу.
Наряженный,
взволнованный,
среди друзей,
родных
сидит мобилизованный
растерянный жених.
Сидит с невестой Верою,
а через пару дней
шинель наденет серую,
на фронт поедет в ней.
Землей чужой, не местною,
с винтовкою пойдет,
под пулею немецкою,
быть может, упадет…
В стакане брага пенная,
но пить ему невмочь.
Быть может, ночь их первая —
последняя их ночь.
Глядит он опечаленно
и — болью всей души —
мне через стол отчаянно:
«А ну давай пляши!»
Забыли все о выпитом,
все смотрят на меня,
И вот иду я с вывертом,
подковками звеня.
То выдам дробь,
то по полу
носки проволоку.
Свищу,
в ладоши хлопаю,
взлетаю к потолку.
Висят на стенках
лозунги,
что Гитлеру — капут,
а у невесты —
слезоньки
горючие
текут.
Уже я измочаленный,
Уже едва дышу…
«Пляши!» —
кричат отчаянно,
и я опять пляшу…
Ступни как деревянные,
когда вернусь домой,
но с новой свадьбы пьяные
являются за мной.
Отпущен еле матерью,
на свадьбы вновь гляжу
и вновь
у самой скатерти
вприсядочку хожу.
Невесте горько плачется.
Стоят в слезах друзья.
Мне страшно.
Мне не пляшется.
Но не плясать
нельзя…
1955
Александр Жаров
Заветный камень
Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря…
И грозный соленый бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал…
В туманной дали
Не видно земли.
Ушли далеко корабли.
Друзья-моряки подобрали героя.
Кипела вода штормовая…
Он камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал, умирая:
«Когда покидал я родимый утес,
С собою кусочек гранита унес —
Затем, чтоб вдали
От крымской земли
О ней мы забыть не могли.
Кто камень возьмет, тот пускай поклянется,
Что с честью носить его будет.
Он первым в любимую бухту вернется
И клятвы своей не забудет.
Тот камень заветный и ночью и днем
Матросское сердце сжигает огнем…
Пусть свято хранит
Мой камень гранит —
Он русскою кровью омыт».
Сквозь бури и штормы прошел этот камень,
И стал он на место достойно…
Знакомая чайка взмахнула крылами,
И сердце забилось спокойно.
Взошел на утес черноморский матрос,
Кто родине новую славу принес.
И в мирной дали
Идут корабли
Под солнцем родимой земли.
1943–1945
Тот, кто с ним говорил хоть недолго,
помнит волжский его говорок.
Человек этот был, словно Волга,
вдохновенно могуч и широк.
Я лицо его знал по портретам,
наизусть заучил все черты.
В кабинет его, залитый светом,
привели меня детства мечты…
Помню, как у дверей его дома,
на ступенях стоял, сам не свой,
задыхаясь, как после подъема
на вершину горы снеговой…
Помню, как обжигающей искрой
промелькнула в сознании мысль:
«Неужели он рядам, так близко
и мечты наконец-то сбылись?»
Вот басит с удареньем на «о»
он, кто Чехова знал и Толстого.
Я понять не могу ничего
и ответить не в силах ни слова.
Вот сидит он, чью руку не раз
пожимал с уважением Ленин…
Я боюсь, что проснусь я сейчас
где-нибудь на вокзальной ступени…
Вдруг, смотрю — он усы распушил
молодою улыбкой сердечной
и, спросив меня:
— Куришь, конечно? —
папиросой большой угостил.
Незаметно волненье мое
с папиросным рассеялось дымом.
И, как будто не с Горьким Максимом,
а с товарищем старшим, любимым,
говорю про житье, про бытье.
О скитаньях своих рассказал,
о работе в порту, в Ленинграде,
и стихи — ожидая похвал —
прочитал нараспев по тетради.
Думал — скажет сейчас: «Хорошо!» —
по плечу с одобреньем похлопав.
Но, как мастер подручному:
— Плохо! —
он сказал, нажимая на «о».
Показал, как расставить слова,
чтоб строка зазвенела струною.
Но не просто секрет мастерства —
смысл работы раскрыл предо мною:
— Поэт говорил во время óно
с друзьями, со своей семьей.
Сегодня
он, стóя у микрофона,
со всей говорит Землей!
Врывается голос во все квартиры,
сразу во все этажи.
Поэт должен быть эхом мира,
а не нянькой своей души!
Поэт должен работать,
так
сердце свое настроив,
чтоб
в дни трудовых и военных атак
людей превращать в героев!..
(.)
Тот, кто с ним говорил хоть недолго,
выходил полный сил на порог.
Человек этот был, словно Волга,
вдохновенно могуч и широк!
1951
Василий Журавлев
Старый карагач
Повсюду степь!
Степь без конца и края
шумит,
волной пшеничною играя
да табуны ветров
пуская вскачь.
И вдруг
над марью поля золотого,
над изобилием зерна литого
раскинул руки старый карагач.
Он, как колхозник,
посреди пшеницы встал,
чтоб целинной нивой
подивиться
да поразмыслить в поле
кой о чем.
И ничего,
что в пыльном он наряде
и что сухие ветви,
словно пряди
седых волос,
застыли над плечом.
Все ничего!
Да только вот в просторы
врываются ревущие моторы.
И карагач
уже в кольцо зажат.
А под его полою карагачата —
смешные,
несмышленые внучата —
стоят
да каждым листиком дрожат.
И старый карагач,
почти неистов,
вдруг застонал,
заслышав трактористов:
— Ребята!
А нельзя ли стороной
пообойти мои владенья эти?!
Сердечные,
хоть совесть поимейте,
ведь я здесь все же
житель коренной!..
И трактористы, утопая в гуле,
свои машины
в сторону свернули,
оставив за собой одно жнивье.
И карагач,
опять поля лаская,
куражится,
на волю выпуская
потомство плодовитое свое.
1956