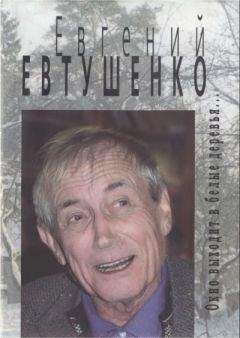из полумрака глазами зыбкими глядит. 1955 Евгений Евтушенко. Мое самое-самое. Москва, Изд-во АО "ХГС" 1995.
* * * Лифтерше Маше под сорок. Грызет она грустно подсолнух, и столько в ней детской забитости и женской кричащей забытости! Она подружилась с Тонечкой, белесой девочкой тощенькой, отцом-забулдыгой замученной, до бледности в школе заученной. Заметил я
робко, по-детски поют они вместе в подъезде. Вот слышу
запела Тонечка. Поет она тоненько-тоненько. Протяжно и чисто выводит... Ах, как у ней это выходит! И ей подпевает Маша, обняв ее,
будто бы мама. Страдая поют и блаженствуя, две грусти
ребячья и женская. Ах, пойте же,
пойте подольше, еще погрустнее,
потоньше. Пойте,
пока не устанете... Вы никогда не узнаете, что я,
благодарный случаю, пение ваше слушаю, рукою щеку подпираю и молча вам подпеваю. 1955 Евгений Евтушенко. Мое самое-самое. Москва, Изд-во АО "ХГС" 1995.
НА ВЕЛОСИПЕДЕ Я бужу на заре своего двухколесного друга. Мать кричит из постели: "На лестнице хоть не трезвонь!" Я свожу его вниз. По ступеням он скачет упруго. Стукнуть шину ладонью и сразу подскочет ладонь! Я небрежно сажусь вы посадки такой не видали! Из ворот выезжаю навстречу воскресному дню. Я качу по асфальту. Я весело жму на педали. Я бесстрашно гоню, и звоню,
и звоню,
и звоню... За Москвой петуха я пугаю, кривого и куцего. Белобрысому парню я ниппель даю запасной. Пью коричневый квас в пропылившем 1000 ся городе Кунцево, привалившись спиною к нагретой цистерне квасной. Продавщица сдает мокрой мелочью сдачу. Свое имя скрывает: "Какие вы хитрые все". Улыбаясь: "Пока!", я к товарищу еду на дачу. И опять я спешу; и опять я шуршу по шоссе. Он сидит, мой товарищ, и мрачно строгает дубину на траве,
зеленеющей у гаража. Говорит мне: "Мячи вот украли...
Обидно..." И корит домработницу: "Тоже мне страж...
Хороша!" Я молчу. Я гляжу на широкие, сильные плечи. Он о чем-то все думает, даже в беседе со мной. Очень трудно ему. На войне было легче. Жизнь идет. Юность кончилась вместе с войной. Говорит он: "Там душ.
Вот держи,
утирайся". Мы по рощице бродим, ругаем стихи и кино. А потом за столом, на прохладной и тихой террасе, рядом с ним и женою тяну я сухое вино. Вскоре я говорю: "До свидания, Галя и Миша". Из ворот он выходит, жена прислонилась к плечу. Почему-то я верю: он сможет,
напишет... Ну а если не сможет, и знать я о том не хочу. Я качу! Не могу я с веселостью прущей расстаться. Грузовые в пути догоняю я махом одним. Я за ними лечу в разреженном пространстве. Па подъемах крутых прицепляюсь я к ним. Знаю сам,
что опасно! Люблю я рискованность! Говорят мне, гудя напряженно,
они: "На подъеме поможем, дадим тебе скорость, ну, а дальше уже, как сумеешь, гони". Я гоню что есть мочи! Я шутками лихо кидаюсь. Только вы не глядите, как шало я мчусь,это так, для фасону. Я знаю,
что плохо катаюсь. Но когда-нибудь я хорошо научусь. Я слезаю в пути у сторожки заброшенной,
ветхой. Я ломаю черемуху
в звоне лесном. и, к рулю привязав ее ивовой веткой, я лечу
и букет раздвигаю лицом. Возвращаюсь в Москву. Не устал еще вовсе. Зажигаю настольную, верхнюю лампу гашу. Ставлю в воду черемуху. Ставлю будильник на восемь, и сажусь я за стол, и вот эти стихи
я пишу... 1955 Евгений Евтушенко. Мое самое-самое. Москва, Изд-во АО "ХГС" 1995.
ЗАВИСТЬ Завидую я.
Этого секрета не раскрывал я раньше никому. Я знаю, что живет мальчишка где-то, и очень я завидую ему. Завидую тому,
как он дерется,я не был так бесхитростен и смел. Завидую тому,
как он смеется,я так смеяться в детстве не умел. Он вечно ходит в ссадинах и шишках,я был всегда причесанней, целей. Все те места, что пропускал я в книжках, он не пропустит.
Он и тут сильней. Он будет честен жесткой прямотою, злу не прощая за его добро, и там, где я перо бросал:
"Не стоит!"он скажет:
"Стоит!"- и возьмет перо. Он если не развяжет,
так разрубит, где я ни развяжу,
ни разрублю. Он, если уж полюбит,
не разлюбит, а я и полюблю,
да разлюблю. Я скрою зависть.
Буду улыбаться. Я притворюсь, как будто я простак: "Кому-то же ведь надо ошибаться, кому-то же ведь надо жить не так". Но сколько б ни внушал себе я это, твердя:
"Судьба у каждого своя",мне не забыть, что есть мальчишка где-то, что он добьется большего,
чем я. 1955 Евгений Евтушенко. Мое самое-самое. Москва, Изд-во АО "ХГС" 1995.
* * * Я кошелек.
Лежу я на дороге. Лежу один посередине дня. Я вам не виден, люди.
Ваши ноги идут по мне и около меня. Да что, вы
ничего не понимаете?! Да что, у вас, ей-богу,
нету глаз?! Та пыль,
что вы же сами поднимаете, меня скрывает,
хитрая,
от вас. Смотрите лучше.
Стоит лишь вглядеться, я все отдам вам,
все, чем дорожил. И не ищите моего владельца я сам себя на землю положил. Не думайте,
что дернут вдруг за ниточку, и над косым забором невдали увидите какую-нибудь Ниночку, смеющуюся:
"Ловко провели!" Пускай вас не пугает смех стыдящий и чьи-то лица где-нибудь в окне... Я не обман.
Я самый настоящий. В 1000 ы посмотрите только, что во мне! Я одного боюсь,
на вас в обиде: что вот сейчас,
посередине дня, не тот, кого я жду,
меня увидит, не тот, кто надо,
подберет меня. 1955 Евгений Евтушенко. Мое самое-самое. Москва, Изд-во АО "ХГС" 1995.
ЗЛОСТЬ
Добро должно быть с кулаками.
М. Светлов (из разговора)
Мне говорят,
качая головой: "Ты подобрел бы.
Ты какой-то злой". Я добрый был.
Недолго это было. Меня ломала жизнь
и в зубы била. Я жил
подобно глупому щенку. Ударят
вновь я подставлял щеку. Хвост благодушья,
чтобы злей я был, одним ударом
кто-то отрубил! И я вам расскажу сейчас
о злости, о злости той,
с которой ходят в гости, и разговоры
чинные ведут, и щипчиками
сахар в чай кладут. Когда вы предлагаете
мне чаю, я не скучаю
я вас изучаю, из блюдечка
я чай смиренно пью и, когти пряча,
руку подаю. И я вам расскажу еще
о злости... Когда перед собраньем шепчут:
"Бросьте!.. Вы молодой,
и лучше вы пишите, а в драку лезть
покамест не спешите",то я не уступаю
ни черта! Быть злым к неправде
это доброта. Предупреждаю вас:
я не излился. И знайте
я надолго разозлился. И нету во мне
робости былой. И
интересно жить,
когда ты злой! 1955 Евгений Евтушенко. Мое самое-самое. Москва, Изд-во АО "ХГС" 1995.
НЕЖНОСТЬ Разве же можно,
чтоб все это длилось? Это какая-то несправедливость... Где и когда это сделалось модным: "Живым - равнодушье,
внимание - мертвым?" Люди сутулятся,
выпивают. Люди один за другим
выбывают, и произносятся
для истории нежные речи о них
в крематории... Что Маяковского жизни лишило? Что револьвер ему в руки вложило? Ему бы
при всем его голосе,
внешности дать бы при жизни
хоть чуточку нежности. Люди живые
они утруждают. Нежностью
только за смерть награждают. 1955 Евгений Евтушенко. Мое самое-самое. Москва, Изд-во АО "ХГС" 1995.
ПАРК Разговорились люди нынче. От разговоров этих чад. Вслух и кричат, но вслух и хнычат, и даже вслух порой молчат.
Мне надоели эти темы. Я бледен. Под глазами тени. От этих споров я в поту. Я лучше в парк гулять пойду.
Уже готов я лезть на стену. Боюсь явлений мозговых. Пусть лучше пригласит на сцену меня румяный массовик.
Я разгадаю все шарады и, награжден двумя шарами, со сцены радостно сойду и выпущу шары в саду.
Потом я ролики надену и песню забурчу на тему, что хорошо поет Монтан, и возлюбуюсь на фонтан.
И, возжелавши легкой качки, лелея благостную лень, возьму я чешские "шпикачки" и кружку с пеной набекрень.
Но вот сидят два человека и спорят о проблемах века.
Один из них кричит о вреде открытой критики у нас, что, мол, враги кругом, что время неподходящее сейчас.
Другой - что это все убого, что ложь рождает только ложь и что, какая б ни была эпоха, неправдой к правде не придешь.
Я закурю опять, я встану, вновь удеру гулять к фонтану, наткнусь на разговор, другой... Нет,- в парк я больше ни ногой!
Всё мыслит: доктор медицины, что в лодке сетует жене, и женщина на мотоцикле, летя отвесно но стене.
На поплавках уютно-шатких, и аллеях, где лопочет сад, и на раскрашенных лошадках везде мыслители сидят.
Прогулки, вы порой фатальны! Задумчивые люди пьют, задумчиво шумят фонтаны, задумчиво по морде бьют.
Задумчивы девчонок челки, и ночь, задумавшись всерьез, перебирает, словно четки, вагоны че 1000 ртовых колес... 1955 Евгений Евтушенко. Мое самое-самое. Москва, Изд-во АО "ХГС" 1995.
ПО ЯГОДЫ Три женщины и две девчонки куцых, да я...
Летел набитый сеном кузов среди полей шумящих широко. И, глядя на мелькание косилок, коней,
колосьев,
кепок
и косынок, мы доставали булки из корзинок и пили молодое молоко. Из-под колес взметались перепелки, трещали, оглушая перепонки. Мир трепыхался, зеленел, галдел. А я - я слушал, слушал и глядел. Мальчишки у ручья швыряли камни, и солнце распалившееся жгло. Но облака накапливали капли, ворочались, дышали тяжело. Все становилось мглистей, молчаливей, уже в стога народ колхозный лез, и без оглядки мы влетели в ливень, и вместе с ним и с молниями - в лес! Весь кузов перестраивая с толком, мы разгребали сена вороха и укрывались...