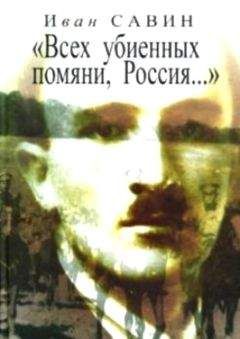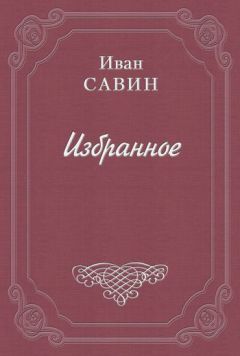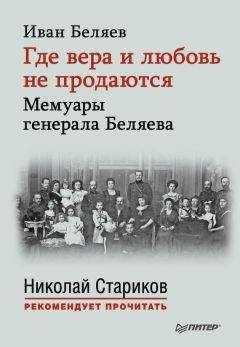В бору, в центре кладбища дач, среди повалившихся заборов, осколков стекла, растрепанных ветром и дождем книг есть вышка. Когда-то выстроил эту высокую деревянную башенку какой-то купец — для потехи больше. А может, для демонстрирования сородичам: видал — миндал? Полторы тысячи выложил, экая махина, пять этажов… А теперь, когда подымешься по гнилой лесенке башни — вот-вот обвалится, — Россия еще слышней, видней и ближе. Как на ладони десятки верст к югу. Цветные квадратики пашен. Развалины белоостровской церкви с белой могилой у кирпичных руин. Лента железнодорожного полотна. Заводы, разбросанные широко деревни, дачи, дачи, дачи. И в ясные дни — чуть заметные дымки над далеким, потонувшим за горизонтом Петербургом…
(Руль. Берлин, 1926. 3 октября. № 1775)
У нее такое странное имя — Айя. Пахнет оно чем-то страшно южным, горячими листьями пальм, душной пеной у берегов Таити, талантливым бредом Пьера Лоти. А сама она — сероглазая фрекен в причудливом чепчике больничной сестры. Взгляд такой прозрачный, совсем северный, чуть-чуть темнеющий к вечеру. Говорит быстро, смешно наклоняя голову набок. Смеется негромким колокольчиком.
Целый день суетится она в палате; мы все следим за ней, и нам радостно — молодым и старым. Даже вон тот угрюмый, весь залитый желчью старик, что медленно угасает в углу, улыбается почти ласково, когда над ним взлетают розовые руки Айи, поправляя подушки или одеяло.
Я здесь недавно, и мне чуждо. С утра лежу на веранде, заставленной цветами. Их так много — ромашки, левкои, какие-то местные финские цветы с голубо-сиреневой головкой и длинными листьями, похожими на лапы ощетинившегося кота. Вижу широкий двор, весь в сочной траве, черные лысины скал, за скалами — зеленую поляну моря, исписанную белыми черточками пены. Соленый воздух ходит между колоннами, треплет ромашки, колышет занавески окон.
Мне чуждо. Перелистываю журнал на непонятном языке, вслушиваюсь в прыгающий придушенный говор за дверью, стараюсь понять непонятную, спокойную, не нашу жизнь…
Входит Айя с кувшином. Каждое утро и вечер она поливает цветы, любовно разглядывает их, не распустился ли новый? И вот в это время мы разговариваем. Я не знаю ни финского, ни шведского; ее кто-то выучил по-русски романсу «Гай да тройка!», который она и поет в свободные минуты, безбожно перевирая слова, но у обоих нас есть небольшой запас немецких фраз.
Айя рассматривает кошачью лапу сиреневого цветка и спрашивает:
— У вас есть ромашки?
— Она всегда спрашивает о России, Россия ее страшно интересует: «Я не понимаю… сказала она мне вчера. — Удивительно, как можно любить страну, где люди такие злые?..»
— Есть, — отвечаю я.
— Такие же белые и с золотыми сердечками?
— Да, с золотыми сердечками…
Айя недоверчиво качает головой и уходит в палату. Через несколько минут она возвращается с наполненным снова кувшином и наклоняется над рядом горшков с ромашками.
— У вас есть невеста?
Вопрос так неожидан и глаза Айи так строго смотрят на меня, что я роняю журнал на пол.
— Была…
— Почему — была? — удивляется фрекен, и я чувствую, как с ярких губ готов сорваться чуть-чуть лукавый, девичий упрек в неверности.
— Была, потому что ее, может быть… съели. На юге России такой голод, — говорю я, и шутка моя звучит так жестоко.
Айя сочувственно вздыхает.
— Покажите мне ее фотографию. Она хорошенькая? Ваши девушки все такие… как это сказать по-немецки… тощие…
— У меня нет фотографии…
— Нет? Странно… ну, прядь волос. Это всегда так делается.
— И волос нет. Ничего нет, — отвечаю я грустно. — Я даже не знаю, где она сейчас, жива ли. Такая буря разбросала нас во все стороны…
Айя садится рядом со мной на скамью. Мне кажется, что в ее серых глазах вот-вот сверкнут слезы — чуткая сердечность говорит в каждом ее жесте.
— И ничего на память не осталось?
— Ромашка осталась… — невольно заражаясь сентиментальной грустью ее глаз, отвечаю я…
— Какая ромашка? — перебивает меня Айя.
— Сухая… белая с золотым сердечком…
— Фрекен… — зовет кто-то в палате.
Айя быстро срывается с места, хватает кувшин и идет к двери, говоря скороговоркой:
— Какие вы все сухие, тощие… как ромашка… И Россия ваша — ромашка, вся высохла. И вы сами, и невеста ваша, и все русские — ромашки сухие, больше ничего.
Опять сижу один на большой веранде. Смотрю на седую, почему-то такую неприятную голову Ллойд Джоржа в прошлогоднем журнале и думаю: как много неожиданной правды в простых словах простой девушки! Сухие ромашки мы… Россия — вся высохла… Жалкие, никому не нужные цветы… Мы — для гербария, для странной и страшной коллекции: цветы с высохших полей… Люди без Родины… А соленый ветер ходит между колоннами, треплет занавески, шепчет в уши нежно: «Уже недолго… недолго… Может быть, год, может быть, месяц… На безгранной поляне России гуще, сильнее и ярче прежнего зацветут ромашки… Белые-белые… С золотыми, гневными, прозревшими сердцами…»
Уже недолго.
(Русские вести. 1922. 23 ноября. № 131)
Я не знаю, каким ты будешь: смуглым или золотоволосым, скрытным, с деланым равнодушием серых глаз или с глазами синими и душой открытой, как кусочек весеннего неба в тяжелом полотне туч, жестоко ли заколотишь себя в дымном склепе кабинета или, махнув беспечно рукой на чины, ранги и ордена, до заката своих дней просмеешься на чердаках богемы.
Я даже не знаю, будешь ли ты вообще, — как приподнять завесу будущего? Уже из этого факта, что ты сын моего несуществующего сына, можешь заключить, каким безнадежным мечтателем был твой странный дед.
Иногда, вот и сегодня, мне кажется, что ты весь будешь в бабку, тоже еще пока находящуюся в проекте: чуть-чуть нелогичный, с пухлыми пальцами и сердцем тоже пухлым, вечно ребячьим: в детстве будешь часто падать, плакать крупными каплями слез и любить бутерброды «на три канта», то есть в три этажа… Потом вытянешься, закуришь потихоньку, в промежутках между изучением семнадцати наук будешь бить головой футбольный мяч или мячом голову — к тому времени правила игры изменятся, как и все вообще, — скажешь какой-нибудь девочке, играющей в девушку: «Я вас люблю» — и радостно подумаешь: «Я совсем взрослый…» Потом… Вот по поводу этого «потом»… я и хочу поговорить с тобой, мой милый внук!
В самом деле, что будет потом? Это так просто: тебе раза два изменит любимая женщина и раза три не заплатит по векселям лучший друг. И ты попробуешь приставить к виску нехорошую штуку, которая у нас называется револьвером. Или для переселения в иной мир у вас будут выдуманы особые радиоволны?
Пусть так… Пытаясь прожечь себя радиоволной, ты обязательно подумаешь, что жить не стоит, а если будет в тебе особый вид недуга — неравнодушие к цитатам, то ты скажешь не без трагизма: «А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — такая пустая и глупая шутка».
Вот тогда-то и вспомни совет деда: умрешь ли ты или все это так, нарочно, — жизнь беспредельно хороша! Брось радиоволны, радиоревольверы, радиояды… Самая прелестная в мире женщина и самый большой на свете вексель — микроскопические песчинки в сравнении с огромной радостью жизни.
Дышишь ли ты сейчас пылью сенатского решения за 1963 год или дешевой пудрой какой-нибудь остроглазой Зизи, — и в пыли архива, и в пудре твоей случайной подруги пахнет тем, что безгранично выше минутных горестей и разочарований, — жизнью. Не комкай же ее, не проклинай, не рви!
Мы, то есть все те, кто отошел уже в вечность, — сходи сегодня ко мне на могилу и принеси цветов, только не красных, — мы всю жизнь свою ныли. Смешно сказать: пережарит ли кухарка жаркое, падут ли 0,003 акции какого-либо банка, случайно купленные и полузабытые, немного суше, чем обычно, поздоровается она, — мы неизменно ворчали:
— Ну и жизнь! Вот бы кто-нибудь перевернул ее вверх дном!
Теперь ее перевернули. Кажется, надолго. Десятый год, мировые акробаты, стоим на голове у края черной бездны, бывшей когда-то Россией. И только теперь, только блестя налитыми кровью глазами, мы поняли наконец, что «Ну и жизнь!» — была настоящей жизнью, что мы сами превратили ее в скачку с препятствиями на сомнительный приз, пробили голову нашему прошлому, выкололи глаза у будущего, оклеветали самих себя.
Еще в школе ты читал в учебнике истории, что вторую русскую революцию — некоторые называют ее «великой» — подготовили социальные противоречия и сделали распустившиеся в тылу солдаты петербургского гарнизона. Не верь! Революцию подготовили и сделали мы. Революцию сделали кавалеры ордена Анны третьей степени, мечтавшие о второй, студенты первого курса, завидовавшие третьекурсникам, и наоборот: штабс-капитаны, до глубины души оскорбленные тем, что Петр Петрович уже капитан, добродетельные жены, считавшие верность занятием слишком сладким, и жены недобродетельные, полууверенные в том, что изменять своим мужьям — довольно горько, учителя математики, презиравшие математику и всем сердцем любившие что-нибудь другое, судебные следователи, страстно мечтавшие быть послезавтра прокурорами. Революцию сделали те, кто хныкал с пеленок до гроба, кто никогда и ничем не был доволен, кому всего было мало, кто в девяноста девяти случаях из ста жаловался, брюзжал и ругался, так сказать, по инерции… А сделав революцию, мы с безмерной болью — ты не поймешь этой боли, милый мой, — убедились, что у нас была не воображаемая, не мифическая, а действительная жизнь — теплая, ласковая, богатая, чудная жизнь.