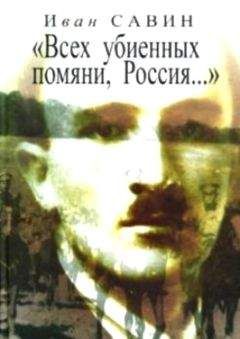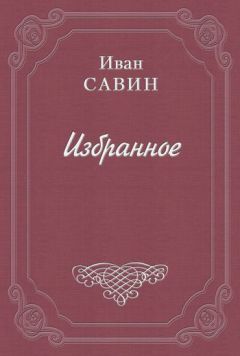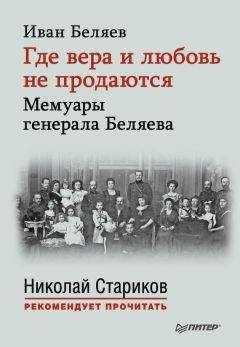Революция оказалась необычайно плодовитой: в первые же дни своего бьггия она родила столько детей, перешедших в историю под кличкой — «завоевания», что сперва казалось, будто все взрослые превратились в детей. Первым завоеванием была свобода слова, причем разрешалось говорить что угодно, когда угодно, зачем угодно и обязательно так, чтобы оставалось часа два в сутки свободного времени — полущить на Невском семечки и немножко побить стекла в каком-нибудь дворце.
Были случаи, когда ораторы говорили по несколько суток сряду, посвящая только несколько минут набегам на винные погреба. Говорят, что г. Керенский мог декламировать 24 часа и четырнадцать секунд в сутки, и эту декламацию все горничные очень даже одобряли, особенно когда со слезой. Чернов и Чхеидзе тоже говорили мало. «Бабушка русской революции» митинговала так правдиво, что, солдаты петроградского гарнизона были искренно удивлены, что Брешко-Брешковская — это фамилия «бабушки».
— Я думал, — говорил мне один солдат, — что это прозвище у ей такое, потому брешет она здорово…
Через час после свободы слова родилась свобода ругани; еще через час свобода совести. Конечно, было очень нетактичным со стороны многоуважаемой роженицы и ее многочисленных супругов напоминать о совести в такое бессовестное время, но так было. Все тюрьмы получили телеграфное распоряжение — немедленно освободить всех политических до конокрадов включительно. Настало веселое время.
В нашем, например, городе не было ни одного политического арестанта, кроме разве лысого аптекаря, очень левого элемента, который незадолго до того ушел из «Союза русского народа», считая его недостаточно радикальным. Что делать? Судили, рядили отцы наши, думцы и земцы, и по совету губернского представителя Временного правительства постановили:
— Дабы не отставать от всей свободной России, выпустить из тюрьмы уголовных, взяв с них предварительно клятву в добродетельной жизни.
Церемония освобождения «борцов за свободу» была так трогательна, что даже лысый аптекарь заплакал, успев только сказать освобождаемым: когда мы, социалисты, страдали за революцию… Специально выписанный румынский оркестр, совершенно трезвый, играл «Марсельезу» и «Вы жертвою пали» с таким чувством, что жена пристава второго участка всенародно поклялась все силы свои отдать укреплению революции. Все дамы были в красном, с огромными букетами в руках. Мы, гимназисты, до трех часов ночи жарили на балалайках, гитарах и мандолинах «Во саду ли, в огороде», «Ах, мама, мама, мама», «Сидит милый на крыльце» и прочие революционные песни.
В стройном порядке, с растроганными, но гордыми лицами вышли на свободу борцы за революцию и в ту же ночь ограбили и убили девять человек и одну массажистку…
За свободой совести родились с поразительной быстротой: свобода мордобития, свобода грабежа и свобода от защиты отечества. Все эти свободы были весьма похожи на удочку, которая, как известно, есть такой инструмент, на одном конце которого находится червяк, а на другом — дурак: люди с удочками-свободами в руках улавливали червяками тех, что болтались на конце этих почтенных инструментов. Хотя мне кажется, что свобода еще менее сложна, чем удочка: в ней и червяков нет.
Свобода мордобития, как упоминалось выше, называлась «народным гневом», свобода грабежа — социализацией и экспроприацией. Свобода от защиты отечества никак не называлась. Долой войну! — и никаких испанок. В отношении этих испанок, мешающих миру, надо сказать, что г. Керенский хотя и брюнет, но не испанка, так как поражению русской армии он абсолютно не мешал и вообще вел себя недурно. Из декламаторских его произведений этого периода наиболее замечателен «Рассказ № 1».
Была еще свобода печати, но так как непечатные темы не входят в мои задачи, то я и отсылаю интересующихся этим вопросом узких специалистов к любой советской газете, предупреждая, что все же им лучше ознакомиться с газетами 17-го года. Гораздо поучительнее и, так сказать, «забористее».
Дабы покончить с завоеваниями медовых месяцев революции (о взятках и подлогах речь впереди), укажу еще на свободу лжи. Не будет преувеличением утверждать, что девять десятых всех «уговаривающих» и «главноуговаривающих» были Брешко-Брешковскими.
Кто-то имел терпение записать восьмичасовую речь одного из московских декламаторов — с десятиминутным перерывом на арест племянника двоюродного брата жандармского полковника — и нашел, что только три слова в ней более-менее приближались к правде, и то они были сказаны не оратором, а слушателем:
— С жиру бесится…
В июне 17-го года в Киеве я имел радость наблюдать такую сцену: на трибуну — традиционная бочка — влез лохматый парень, сочно сплюнул и возопил:
— Това-а-арищи! Теперь, значит, тот самый первый май, который мы празднуем первого мая…
— Май уже прошел, — крикнули в толпе.
— Это все единственно. Това-а-рищи! Проклятый старый режим сожрал все мое состояние здоровья. Това-а-рищи! Я восемь лет страдал в Сибири за революцию…
— Брешешь! — раздалось в толпе.
— Ты ж на каторге был за то, что магазин на Крещатике ювелирный обчистил. Эй, кто поближе, бей его в морду!..
История эта будет неполной, если не сказать, что лохматый парень, чего и следовало, собственно, ожидать, оказался одним из главных представителей Киевской революционной власти. В больницу отвезли его на автомобиле…[48]
(Дни нашей жизни. 1923. № 2–4. С. 29–31)
Политическая сатира в 1905–1906 гг.
Дела давно минувших дней…
Затихли они в тяжелом томе сатирических журналов 1905–1906 годов. Бережная рука складывала их один за другим в укромном уголке, прятала потом от обысков «слуг распоясавшейся реакции», сберегла до наших дней, до наших дел — диаметрально противоположных прежним. Но, может быть, также пахнущих кровью…
С моим архивом, с пестрой семьей усердно собираемых мною документов второй русской революции, эти свидетели революции первой неразрывно связаны общностью устремлений, тем же упорным севом народного восстания. И одинаковыми плодами!.. Убиение первой — «реакцией», второй — большевизмом!
Перелистываю цветные страницы увесистого тома. Бесконечно следуют друг за другом легальные и нелегальные «Бомбы», «Паяцы», «Вампир», «Нагаечка», «Буря», «Девятый вал», «Гвоздь», «Пулемет», «Перец»… Бесконечная вереница названий, красок, карикатур. Закрывало «Главное управление по делам печати» один журнал, на следующий день появлялся новый. Конфисковали «Нагаечку» — выходила «Плеть». Сажали в тюрьму редактора «Потока» — помощник редактора через день выпускал «Пламя». Шумной лавой растекалась из Петербурга былых годов сатирическая печать — редко художественная, далеко не всегда остроумная, но отвечавшая настроению тогдашнего общества, буйная, подымавшая дух, звавшая на баррикады. Прозревал ли двадцать лет тому назад хоть кто-нибудь с упоительных высот баррикад — грядущее зарево большевизма?
Дела давно минувших дней…
Кто был излюбленной мишенью сатирических листков 1905–1906 годов? Как это ни странно, главным образом нападали и в стихах, и в прозе, и в рисунках на «графа Полусахалинского» — Витте. Одиозные для того времени фигуры Плеве, Победоносцева, Дурново, Дубасова, Мина и прочих — далеко не пользовались такой популярностью, как Витте, постоянно обстреливаемый и слева, и справа.
Под рукой у меня свыше пятидесяти журналов (большей частью № 1 и 2). И все они в первую очередь на все лады осмеивают финансовые проекты Витте. Вот № 1 (1906 г.) журнала «Вампир», отличающегося от своих бесчисленных собратьев и лучшей бумагой, и юмором лучшего тона. На странице шестой читаем:
«Никто необъятного объять не может» (по Козьме Пруткову).
«Однажды, когда ночь покрыла политические горизонты невидимою своею епанчею, знаменитый русский финансист и граф, у ступенек Биржи с толстейшей бухгалтерской книжищей сидевший и несметные ряды цифр с превеликим вниманием смотрящий, — некий плательщик налогов к нему с вопросом подступился:
«Скажи, братец, сколько государственных долгов записано в сей книжище?»
«Мерзавец! — ответствовал сей: — Никто необъятного объять не может».
Сии с превеликим огнем произнесенные слова на прохожего желаемое действие возымели, и очутился он без промедления в ближайшем узилище, Петропавловской крепостью именуемом».
Попытка Витте заключить в Берлине у банкира Мендельсона заем потерпела неудачу, и тот же «Вампир» (№ 3) поместил комбинацию из трех пальцев, пояснив ее так: «Песня без слов» Мендельсона. Посвящается Витте…»
Почти все страницы «Волшебного Фонаря» (первых двух номеров) заполнены хлесткими поэмами в честь «братца Витте». Здесь же Витте пускает мыльные пузыри с надписью «Конституция», показывает американским банкирам картонную Государственную Думу, везет Россию на автомобиле в пропасть.