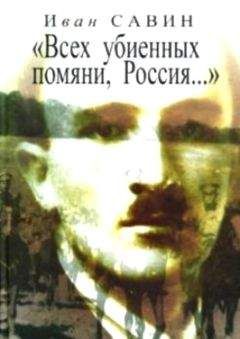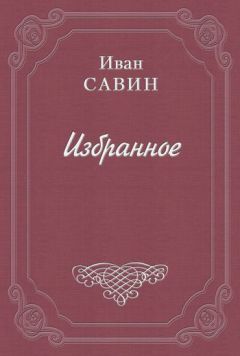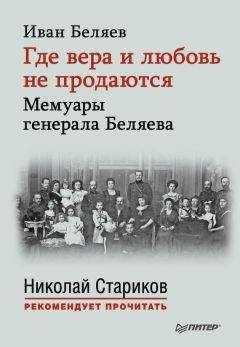Ни один журнал не оставляет в покое талантливого министра финансов и выдающегося государственного деятеля (теперь это пора признать). В «Паяце» Витте играет на балалайке между другими музыкантами — Дурново и Победоносцевым. Здесь же учитель русского языка приказывает ученикам слово «правительство» писать так: «правиттельство» (чтобы было ясно, кто в середине…).
«Гвоздь» посвящает ему эпиграмму:
Умом вам Витте не понять,
Аршином чести не измерить…
Но время, кажется, понять:
Он может только лицемерить!
В «Жупеле» (№ 2) Витте изображен с двумя знаменами в руках — трехцветным и красным, под ними надпись: «Отставка!» И с левой, и с правой…
В «Забияке» (№ 1) Витте ломает рубль.
В «Знамени» (№ 1) «его сиятельство братец», вооруженный штопором, обнимает внушительных размеров сороковку и говорит «со слезой»:
— Одна только ты у меня, голубушка, и осталась…
Журнал «Игла» остроумно высмеивает то же введение винной монополии: на рисунке Витте с бутылкой водки, а внизу пояснение: «Аква Витте…»
Интерес к графу со стороны сатирических листков до такой степени неисчерпаем, что кажется вполне понятным его «собственноручное» письмо (в № 3 «Сигнала») такого содержания: «Братец-редакгор! Я требую, чтобы меня хоть восемь часов в сутки оставляли в покое. Витте…»
Чрезвычайно много места уделено и другой злободневной теме первой революции: борьбе правительства с революционной печатью — в первую очередь, с революционной сатирой. Особое внимание к этому вопросу не требует пространных объяснений: полицейские кары прежде всего обрушивались на издателей, редакторов и сотрудников юмористических журналов.
«Молот» печатает интересную пародию на арию Ленского:
Ария редактора (Перед судебным разбирательством. Опус 129)
Куда, куда вы удалились,
Товарищи моей весны?
Одни — в тюрьму переселились,
Другими — деньги внесены.
Что суд грядущий нам готовит?
Его мой взор напрасно ловит.
В судебной мгле таится он.
Нет нужды: прав иль нет закон!
Сражен ли я — под стражу взятый,
В тюрьме влачащий житие —
Статьею сто двадцать девятой,
Иль гибну по иной статье —
Отсюда, из «приюта неги»
Мне путь один — в снега Пинеги…
Заутра купят две столицы
Лишь «Время Новое» и «День».
А я с газетой — я темницы
Сойду в таинственную сень,
И судопроизводства Лета
Поглотит нас с тобой, газета,
И опечатают листы…
Читатель мой, придешь ли ты
На свежий холм литературный —
Сказать: винимый в массе дел,
Из-за меня в тюрьме сидел
Он на рассвете жизни бурной…
Ежедневно в те годы переодические издания получали «предупреждения», за коими следовала приостановка журнала или газеты и — вышеприведенная «ария редактора». Каскад «предупреждений» недурно отражен в таком, например, «случае из жизни» («Игла» № 1): «Один редактор, открыв коробку с папиросами и прочтя лежавшую в ней бумажку с надписью «остерегайтесь подделок», воскликнул:
— Черт возьми! Опять предупреждение…»
Очень часты в журналах такие объявления: «В тюрьме за скромное вознаграждение согласен сидеть с 24-го числа сего месяца в качестве редактора или издателя. Согласен в отъезд…»
Вероятно, тот же «заместитель» редакторов, руководствуясь собственным опытом, проводит в № 1 «Иглы» такие филологические изыскания: «От какого слова происходит «полиция»? Конечно, от рода службы — «по лицу»…»
В № 7 «Спрута» — предшественник «Сатирикона», издававшийся Корнфельдом же, — приведен такой диалог:
— Вы чем занимаетесь?
— Я сижу литературным трудом…
В № 1 «Зарниц» Теффи меланхолически замечает: «Садитесь, пожалуйста!» — сказал прокурор, узнав, что у редактора нет залога…»
Кто мог думать, что очень скоро — что для вечности каких-нибудь 10–15 лет! — «жестоких прокуроров» заменят следователи ГПУ и скажут, указывая на землю:
— Ложитесь!.. — и даже без «пожалуйста»!
Не кажутся ли теперь все «ужасы» сатирических журналов былых годов, все эти предупреждения, полиция, редакторские арии и пр. — милой сказкой в сравнении с нынешней, советской «свободой слова»?
Каким, действительно, «братцем» кажется покойный Витте в сравнении с Феликсом Дзержинским!..
(Новые русские вести. 1926. 6 января. № 611)
Анна Вырубова о себе, царице и Распутине[49]
Некоторое время назад все газеты обошло странное известие:
— Из Финляндии бежала Анна Вырубова.
Говорили, что бывшая фрейлина и ближайший друг царицы Александры Федоровны, страдая манией преследования, скрылась из пограничной с Советской Россией полосы, где она жила, не то в Швецию, не то во Францию. Передавали, что Вырубову выслали из страны за какую-то пропаганду и противодействие введению нового стиля в православной церкви Финляндии. Уверяли — и все это и «из самых достоверных источников!», — что Вырубова не то сама покончила жизнь самоубийством, не то ее убили.
Клубок слухов вокруг этой, как ее называют, «зловещей женщины» был настолько фантастичен и противоречив, что следовало с осторожностью относиться к «самым достоверным источникам».
Слухи оказались действительно фантастикой. Никуда она из Финляндии не скрывалась. Никогда не стрелялась и не вешалась. Никто ее не думал убивать. «Зловещая женщина» по-прежнему живет в Выборгском районе, изредка приезжая в Гельсингфорс.
На днях в Финляндию из Советской России, куда она ездила в модном теперь амплуа «знатного иностранца», прибыла известная шведская журналистка и писательница Анни Квенсель. Последняя, зайдя к чрезвычайно популярной здесь «защитнице арестантов» баронессе Матильде Вреде, крупной благотворительнице, которой и русские эмигранты обязаны очень многим, застала у баронессы…
Впрочем, представим лучше слово автору, г-же Квенсель.
— Среди гостей я увидела двух дам. Открытые, немолодые уже лица. Мягкие, чуть застенчивые движения, очень тихая речь. Я невольно обратила внимание на этих дам. Они довольно свободно говорили по-шведски, принимая участие в общем разговоре. Но ухо мое сразу уловило характерный русский акцент.
Кто они? Прошло несколько минут, пока я поняла, кто сидит рядом со мной. Это была Вырубова. Анна Вырубова, пользующийся такой печальной известностью интимный друг расстрелянной царицы. Легендарная «зловещая женщина», имевшая столь исключительное значение в последние годы последнего царствования.
Я не сразу смогла заговорить с моей новой знакомой. Весь вид ее, усталый, покорный, почти безразличный, казалось, говорил: не спрашивайте меня ни о чем, не надо рыться в моем прошлом, принесшем мне такие страдания…
Сидевшая рядом с Вырубовой дама, совсем уже старуха, оказалась ее матерью, госпожой Танеевой, урожденной графиней Толстой.
Мне невольно пришли в голову все разноречивые мнения о Вырубовой. Вспомнила я, как много лет тому назад в Вене один из видных посланников при русском дворе охарактеризовал Вырубову. «Это низкая интриганка, — сказал он мне, — из всего извлекающая выгоды для себя. Это главное орудие и креатура Распутина и его клики».
С другой стороны, вспомнила я и слова писательницы Эльзы Брендстрем: «Вырубова — мягкий, добрый, с детской душой человек, верный своей государыне, не только в радости, но и в горе, готовый связать с ней свою судьбу навсегда. Хотя бы только за это она заслуживает полного уважения».
Теперь мне представилась возможность самой составить себе впечатление о человеке, молчаливо сидевшем предо мной.
Через несколько минут Вырубова начала говорить тем же негромким голосом.
— Моя фамилия теперь — Танеева, по имени отца. Мне так спокойнее. Вы слышали когда-нибудь о них? Он был не только придворный, но и музыкант, и композитор, писал оперы и симфонии, дружил с Глинкой и Чайковским. Он заведовал личной канцелярией государя, эта должность переходила в нашем роде от отца к сыну. Но он гораздо больше интересовался музыкой, чем своим положением при дворе. Общая любовь к музыке свела мет с государыней Александрой Федоровной. Мы часто играли с ней в четыре руки, иногда я аккомпанировала, а царица, у которой был хороший голос, пела. Она очень любила наши интимные музыкальные вечера.
При упоминании о царице лицо Вырубовой меняется, глаза горят. Чтобы лучше объясниться, она переходит со шведского на английский язык, который знает в совершенстве.
— Сразу же я почувствовала симпатию к государыне. Чувство это, к счастью, было обоюдным. Я никогда не забуду, как царица сказала мне в первый же день знакомства: «Бог послал мне верного друга в твоем лице, милая Аня».