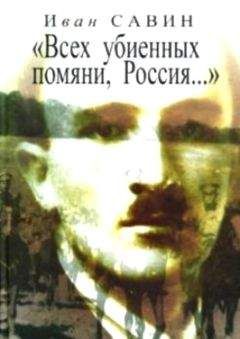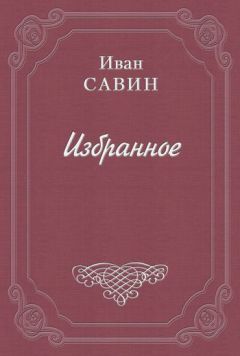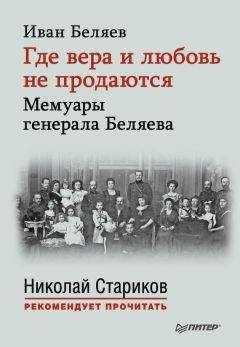Революция ширилась, углублялась; на всех плакатах и знаменах, во всех речах горели слова, в святость которых нас приучили верить с детства: свобода, равенство, братство, земля и воля, вся власть трудящимся, самоопределение… Казалось бы, что учащаяся молодежь, от вечного студента до пятиклассника, должна была отдать все свои силы тем, кто говорил и писал эти слова, — углубителям и расширителям революции. Почему же так скоро нам до рвоты опротивели митинги, комитеты, «Марсельеза», сознательная дисциплина, карты на уроках и, вообще, всяческое углубление? Почему часть из нас ушла на Дон, в стан «контрреволюции», а остальные занялись чем угодно, только не поддержкой вождей революции? Почему теперь, во дни издыхания чекодержавия, там, в советском бедламе, голодную, раздетую молодежь даже ударным пайком не заманишь в социализм, ставший в России бранным словом (о рабфаковцах не говорю — в студенческой среде они тоже стали бранным словом), а здесь, в эмиграции, подавляющее большинство молодежи — глубоко национально и контрреволюционно?
Как мы ни были ошарашены градом заманчивых реклам, мы не могли не сознавать, что благо и жизненность революции могут быть доказаны не рекламой, не более или менее удачным словесным вывертом, а делом, серой, будничной работой, незаметным, упрямым трудом по приведению в порядок в корне расшатанного государственного аппарата. А дела не было. Была бесконечная, бездоказательная, щедро пропитанная демагогией или недомыслием декларация, которой разные политические нарциссы зазывали народ в опекаемую ими партию, разжигая толпу явно неисполнимыми обещаниями. Были мудрые мероприятия сельских министров — первых виновников царящего теперь в России голода. Были провокаторские приказы по армии, окончательно добившие ее сопротивляемость. Был достойный бессмертия порыв к уничтожению всего прошлого, «старорежимного», причем нередко старорежимными считались особенности русского народа исключительной ценности. Было трусливое, подлое заигрывание перед заведомо купленным сбродом, засевшим в доме Кшесинской.
Революция (так нас учили раньше) — всеобщее благо. А рабочего, крестьянина, интеллигента с каждым днем все туже и безнадежней затягивала петля нужды, безработицы, озверения. Революция — претворение в жизнь вековых стремлений пророков социализма, их жертвенного служения правде, их героического пафоса, а пророки залезли в царскую кровать и автомобиль, немножко помитинговали на дрогнувшем по их же милости фронте и в расхристанном тылу и позорно бежали, забыв во дворце не только жертвенное служение правде и героический пафос, но и необходимейшую часть костюма. Революция — призвание к власти всех живых сил страны, а единственными живыми силами оказались или беспочвенные мечтатели, жалкие марионетки в руках пьяной от безвластия черни, или люди практического ума, сразу же и решительно принявшиеся за грабиловку.
Видя все это, переживая, на страшном опыте убедившись в том, что социализм — это или бред сумасшедшего, или доходное шарлатанство, как могла русская молодежь остаться под знаменем революции, развенчавшей самое себя? Как могли мы, искавшие правды, принять революцию, если последняя проповедь любви к людям заменилась словоблудием, если революция загадила Россию, притупила в нас веру во что бы то ни было, искалечила нашу личную жизнь?
Русская молодежь никогда, ни по «тактическим», ни по «программным» соображениям, не скрывала своих симпатий, своих убеждений, и думаю, что я отражу мнение огромного ее большинства, как эмигрантского, так и оставшегося в советской России, гной которой я недавно отряхнул от ног своих, если скажу, что единственное спасение мы видим в национальной контрреволюции. Пусть социалистические и социалиствующие перья обрушат на нас громы и молнии за ставку на реакцию, пусть еще раз попытаются доказать, что по большевистскому опыту нельзя судить о социализме вообще — они не совратят нас в свою ересь. Мы знаем, что после чрезвычайной комиссии слово «реакция» не произведет никакого впечатления. Мы знаем, что советская бойня есть логический вывод, вполне естественное следствие плодотворной деятельности Керенского, Чернова и К0.
(Дни нашей жизни. 1923. № 1. С. 9–12)
К сожалению, я не был знаком со своей прабабушкой, умершей в глубокой старости, лет за тридцать до моего рождения, и не мог спросить ее:
— Вот вы долгий-долгий век прожили, много видели, слышали много. Может быть, ваша мать рассказывала вам о Наташе Ростовой…
— Это что за Пьера Безухова вышла? — спросила бы прабабушка.
— Да, да, за Безухова. Вы сами, может быть, с Татьяной Лариной дружили…
— Княгиня Гремина? Помню, помню. У нее сестра была, Ольга. Хохотунья.
— Да, сестра Ольга. А гончаровскую Веру, может быть, на руках носили.
— Веру? Кажется, нет. А Марфиньку держала. Препотешная девчонка была. Все, бывало, хочет за нос укусить. А было ей тогда… сколько же? — месяца четыре, зубов еще не было.
— Почти столетие прошло пред нами, целая эпоха, море лиц, событий, настроений. Скажите, было ли когда-нибудь так, чтобы женщина хотела перестать быть женщиной?
Прабабушка подумала бы, перебирая незримые листы памяти, и сказала бы, улыбнувшись:
— Как же. Кавалер-девица Дурова, нарядившись гусаром, всю войну с Бонапартом провела и даже крест получила. Пушкин Александр Сергеевич, камер-юнкер… знаешь такого?
— Что-то как будто слышал…
— Как же это так — как будто? Первый поэт был в наше время.
— Теперь, бабушка, только те поэтами считаются, кто посильнее выбранится. Теперь у нас, бабушка, культура во какая…
— Ну так вот, Александр Сергеевич ее записки хотел издать.
— Нет, не то. Это исключительный случай, были и у нас амазонки. А вот хотели ли когда-нибудь все женщины, понимаете, все — превратиться не то в мужчин, не то в существа среднего пола? Встречали ли вы в своей долгой жизни даму, барышню в шляпке, напоминающей мужской котелок, в костюме типа узкого сюртука, в платье такого покроя, какой бывает у чехлов, которые вешаются летом на люстры, чтобы их не запачкали мухи?
Прабабушка обязательно позвонила бы и сказала вбежавшему казачку:
— Принеси валерьянки, барин что-то заговариваться стал! — и, обратившись ко мне, добавила бы престрого: — Кто же, сударь ты мой, наденет такую пакость? Как это может быть, чтобы женщина сознательно лишала себя лучшего своего украшения — женственности?
Бабушка, милая бабушка, — может быть. И уже есть.
Безмерно-грациозная эпоха гавота, полонеза, сарабанды, даже мазурки, даже вальса — не офокстроченного вальса-«бостон», а настоящего, былого — канула в Лету. От кринолинов, от мушек, от галантных дней французского и отечественного Версаля мы пришли — сквозь уродство турнюров, шаровар и соломенных тарелок на голове — к костюмам мужского покроя, к шляпам-котелкам.
Ваши дамы держали в руке — томик Парни, розу, кружевной платок, наши — папиросу. При Екатерине — да будет вечно благословенно это легендарное время! — вы носили пушистый паутинный парик; когда Онегин «возбуждал улыбки дам огнем нежданных эпиграмм» — длинные змейки локонов сбегали по вашим плечам.
А теперь, в тустепные дни, на танцульках царит прическа «гарсон», последнее достижение бездарной эпохи.
Когда я вижу женщину в платье, которое с одинаковым эффектом можно было бы надеть вверх ногами, ибо и в первом и во втором случае оно одинаково безобразно, мне хочется подойти к ней и сказать:
— Зачем вы себя уродуете? Зачем вы надели на себя чехол с люстры? Как вы не можете понять, что этот халат пошл, старит вас, делает вас смешной?
Когда я вижу на улице даму в сюртуке, котелке, со стеком в руке, мне хочется обратиться к ближайшему полицейскому с требованием прекратить это нарушение общественного порядка. И если я не делаю этого, то только потому, что полицейские, как и котелковые дамы, ничего не понимают ни в красоте, ни в женственности.
Раньше фасоны новых платьев рождались в голове художников Божьей милостью, поэтов своего дела. Раньше каждый новый танец принимался только в том случае, если он был красив, плавен, грациозен.
Теперь мода на то и на другое основывается на доказательстве от обратного:
Фокстрот гадок? Он завоевал все танцульки. «Гарсон» превращает женщину в рыжего из цирка — перед ним склонились головы всех дам мира. Прежде женщины из кожи лезли, чтобы показать платье, а теперь лезут из платья, чтобы показать кожу? Да здравствует декольте до пояса и юбки выше колен!
Бабушка, вы вся из эпохи гавота. Мы все — из южноамериканского кабака. Какой-то пьяный матрос в таверне Сан-Франциско или Калькутты, вспоминая давно забытый вальс, начал выделывать под сиплый граммофон па, не похожие ни на какой танец. Лорнирующей его английской мисс из самых «эстетных» нетрезвые телодвижения показались ужасно милыми. Их повторили в Нью-Йорке, потом Париже, потом Лондоне. Так родился фокстрот. Кто скажет, в какой пивной появились впервые тустеп, уанстеп, шимми, все то несказанно мерзкое, безмерно пошлое, что с таким усердием повторяют наши сестры, дочери, жены на, извините за выражение, «танцевальных» вечерах?