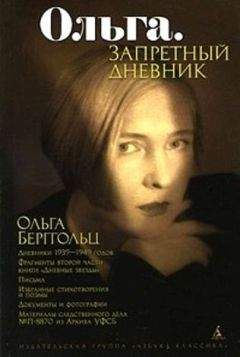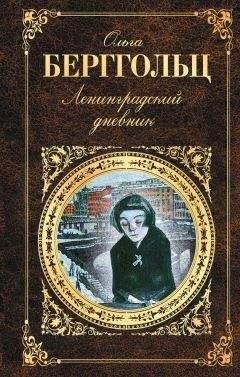Ломалась жизнь, уходила любовь — и стихи такого плана особенно много значили для души: и эти, и мартыновский «Первый снег» («Ушел он рано вечером…»), и знаменитые строки Пастернака — Ольга Федоровна часто их твердила:
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему…
Эти стихи постоянно звучат для меня голосом Ольги Федоровны Берггольц. <…>
ОЛЬГА ОКОНЕВСКАЯ[400]
Фрагмент из книги «И возвращусь опять»
<…> Этот день я запомнила навсегда. Пятница, 14 ноября 1975 года. Запыхавшаяся дежурная поднимается ко мне в класс. У нас это не принято. С уроков никогда никого не вызывают. Значит, ЧП.
…Ночной ленинградский аэропорт. Точнее, вечерний по времени, но ночной по восприятию. Не могу ничего сказать водителю такси, чтобы не разрыдаться. Едем по воспетому Ольгой Федоровной Московскому проспекту. За окнами машины Московский парк Победы, «Электросила»…
— И все-таки — куда?
— На Черную речку.
И сразу все черно. Вечная Черная речка российской поэзии.
Вот и писательское жилище. Даже в гробу Ольге Федоровне не суждено будет вернуться сюда, ибо власти заранее распишут маршрут.
Вхожу в освещенную пустоту подъезда. Страшнее всего сейчас — позвонить. Отдышаться бы. Побыть на лестнице хоть до утра. Как 12 лет назад, боюсь нажать кнопку звонка. Но теперь совсем по другой причине. Очень дрожит рука, и звук раздался какой-то резкий, рваный, жалобный. Открывает Антонина Николаевна, поникшая, черная — не одеждой, лицом.
Почему-то приходили милиционеры и, не сняв фуражки, проверяли в комнате наши паспорта, а у меня даже потребовали письменное объяснение.
— Вы хоть головной убор в доме покойной снимите, — попросила я.
— Мы в форме.
Вечером звонили из Союза писателей, спрашивали, в чем собираемся хоронить. Тем же интересовался и Макогоненко.
— Ольга Федоровна просила в костюме и обязательно с цепью.
— Нет, нет! Только в черном платье. Мы когда-то об этом с ней говорили.
— Георгий Пантелеймонович! Это было давно и, пожалуй, в другом измерении.
На следующий день поехали покупать одежду и обувь. Искали туфли на небольшом каблучке и долго не могли сообразить, какой же размер ей нужен теперь. Как назло, все попадались со светлой подошвой. Пришлось купить что было, и дома упорно закрашивали черной тушью.
В записной книжке Ольги Федоровны разыскали телефон скульптора Е. Г. Ефремова. Через несколько часов он приехал в Ленинград — прямо из своей московской мастерской, в чем был — в легком пальто по настоящему ленинградскому снегу, захватив с собой только генеральный план Пискаревского кладбища: там, думалось, будет последний приют поэта.
На следующий день он помогал выбрать место на Литераторских мостках Волкова кладбища — так, чтобы ближе к «братьям писателям» и чтобы солнце и дневные звезды не терялись в ветвях деревьев.
А потом решили снять посмертную маску и сделать слепок руки: может быть, когда-нибудь пригодится для памятника.
Скорбный узел был наготове, и в понедельник утром мы поехали в Военно-медицинскую академию. Было очень холодно и очень трудно дышать. Казалось, холод исходил от Ольги Федоровны, до подбородка прикрытой простыней. Я бережно вынула и положила на дощечку уже чужую, холодную, негнущуюся руку.
Несколько часов делали слепок, но, когда собирались уходить, он соскользнул и разбился вдребезги. Ефремов выскочил за дверь:
— Больше я сюда не вернусь.
Не предполагал Евгений Георгиевич, что он будет последним, кто прикоснется к руке Ольги Федоровны — руке, протянутой ему на дружбу двадцать два года назад в старинном русском городе Угличе.
Я собрала все кусочки слепка руки в какую-то картонную коробку. Возвращались по темным ленинградским улицам. Падал снег. Мороз пробирал не только снаружи, но и изнутри. Охватывало состояние вселенской боли и пустоты. Пришли домой, сварили картошку, вскипятили чай и первый раз за эти дни поели. Нам еще нужны были силы.
Всю ночь и следующий день мы помогали Евгению Георгиевичу собрать из осколков слепок руки и сушить маску.
В среду предстоял последний путь.
Приезжаем с гробом, чтобы одеть Ольгу Федоровну и приготовить к последнему посещению Дома писателя. Нам протягивают толстую инвентарную книгу:
— Распишитесь в получении…
Сидим в автобусе у черного гроба с серебряной отделкой. Спрашиваю у водителя, когда заедем на Пискаревское кладбище — сейчас или по пути на Мостки?
— Совсем не заедем, — вдруг ошарашивает он своим ответом. — Маршрутом не предусмотрено, а он утвержден свыше.
— Тогда сейчас. Пожалуйста, — прошу я.
— Это невозможно. Нас ведь ждут на гражданскую панихиду, — возражает он.
— Успеем. Не поехать нельзя, — твердо умоляю я и подкрепляю материально свою просьбу.
— Хорошо. Только обещайте: быстро и не вынося гроба из автобуса, иначе я лишусь работы.
Мы подъезжаем к воротам «ее кладбища»,
где выгрызал траншеи экскаватор
и динамит на помощь нам, без силы,
пришел,
чтоб землю вздыбить под могилы…
Разворачиваем автобус так, чтобы Ольга Федоровна была лицом к памятнику, к чеканным строкам, ставшим теперь и собственной эпитафией. Бесконечной вереницей идут люди. И никто из них не знает, что кладбище прощается сейчас со своим поэтом, не имея права принять ее в себя. Я взяла горсть этой земли для гроба. Нам казалось: «бронзовая Слава, держа венок в обугленных руках», неслышно спускается со своего постамента, чтобы возложить его на гроб музы блокадного Ленинграда.
Здесь, на камнях, горит твой стих,
и камни стали как бы зримей.
Как будто тенью Хиросимы
ты отпечаталась на них, —
прочитает Глеб Горбовский на панихиде.
О прощании с О. Берггольц в Доме писателя знали немногие, так как ленинградские газеты с сообщением вышли в день похорон, а люди возвращались с работы уже вечером.
И все-таки сотни ленинградцев пришли проститься. Старые и молодые, блокадники и их внуки, те, кто видел Ольгу Федоровну, и те, кто только слышал ее по радио.
Мы привезли с собой пластинки — «Всенощную» Рахманинова и «Ныне отпущаеши»: Ольга Федоровна хотела, чтобы эта музыка и голос Шаляпина звучали над нею и тогда, когда она их уже не услышит. Но кого бы мы ни просили поставить пластинки, в ответ слышали только бесстрастное:
— Ну что вы? Ведь Берггольц — коммунист. Она давно отреклась от религии.
Когда же забыли мы, что перед вечностью все равны и что не исполнить последнюю волю — общечеловеческий грех?
Очень мало времени отведено было для прощания на этих, как и у Твардовского, «воровских похоронах» (по выражению Б. Чичибабина). Сколько людей не успели, не пробились, не попрощались.
Начинается панихида. Не помню всех выступавших. Но помню, что бесстрашней всех (по тем временам) говорил Федор Абрамов: «…нынешняя гражданская панихида, думаю, могла бы быть и не в этом зале. Она могла бы быть в самом сердце Ленинграда — на Дворцовой площади, под сенью приспущенных красных знамен и стягов, ибо Ольга Берггольц — великая дочь нашего города, первый поэт блокадного Ленинграда».
Стоят в почетном карауле бывшие солдаты и военачальники, писатели, электросиловцы — те, кто знал и любил Берггольц.
Теперь возможно и о ней
писать стихи в высоком стиле…
Прощай, поэт! С не женской силой
твой голос пел на хорах дней, —
читает Глеб Горбовский. Скорее!
Закрываются дверцы автобуса, и остаются на улице люди, которым не на чем доехать до кладбища… Уже открыты ворота Литераторских мостков. Навсегда закрывается черная крышка гроба. Она сразу становится белой от снега, потом снова черной — первые комья земли, согретые теплом дружеских рук, и снова белой. Первый могильный саван, а на нем, почти вертикально, — мраморная светло-серая плита с надписью золотом, в которой нет ничего лишнего:
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ 1910–1975
И лица… лица… В них растерянность, отчаяние, воспоминания, боль…
<…>
…На девятый день решили собраться в доме самые близкие люди. Мы сидели за первым и последним в этой квартире поминальным столом. Горели свечи, освещая огромный портрет, и как-то. до неприличия громко тикали часы: время — понятие не только относительное, но и абсолютное.
Знаю, смерти нет: не подкрадется,
Не задушит медленно она, —
Просто жизнь сверкнет и оборвется,
Точно песней полная струна.