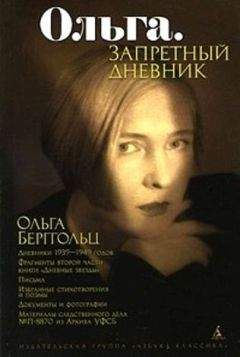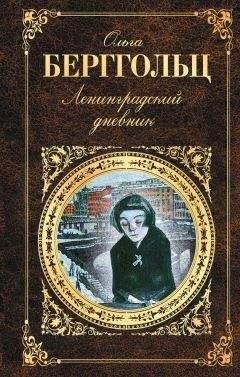ФЕДОР АБРАМОВ[401]
Слово у гроба
Этот небольшой круглый зал давно уже стал не только местом встреч живых писателей, свидетелем их земных радостей и тревог. Он стал и местом последнего прощания с нашими товарищами.
Но нынешняя гражданская панихида, думаю, могла бы быть и не в этом зале. Она могла бы быть в самом сердце Ленинграда — на Дворцовой площади, под сенью приспущенных красных знамен и стягов, ибо Ольга Берггольц — великая дочь нашего города, первый поэт блокадного Ленинграда. И сегодня над ее гробом в последнем низком поклоне склонились все: и живые и мертвые, и герои и жертвы, все участники великой битвы за город на Неве.
Я знаю, не по наслышке знаю, что такое блокада. Я помню, не забыл, как в самую страшную пору — в декабре-январе — лежал в нетопленном госпитале с простреленными ногами, в одной из аудиторий исторического факультета, где всего еще каких-то полгода назад доводилось мне слушать лекции. Лежал в рукавицах, в солдатской шапке-ушанке, а сверху был завален еще двумя матрацами.
Так ведь то было в военном госпитале, где был все ж таки кое-какой уход за больными, была — худо-бедно — трехразовая кормежка. А что сказать о тех, домашних госпиталях? А Ленинград — мы помним это — на две трети, на три четверти в то время был госпиталем. Великое множество промороженных склепов и пещер, в которых медленно умирали истощенные ленинградцы.
И может быть, самым страшным для них, для этих умирающих, был еще не голод, не стужа, не кромешная тьма, а одиночество. Да, да, одиночество, самое обычное одиночество, когда некому сказать тебе последнего слова, когда не от кого услышать слова поддержки и утешения.
И вот в часы этого страшного одиночества над головой блокадника из промороженного, мохнатого от инея репродуктора-тарелки — такие тогда были — вдруг раздавался живой человеческий голос. Голос, полный неподдельной любви и сострадания к ленинградцам, голос, опаленный ненавистью к врагу, голос, взывающий к жизни, к борьбе.
То был голос Ольги Берггольц.
И тогда совершалось чудо: силою слова, силою только одного человеческого слова, правда, слова Ольги Берггольц, безнадежно больные, истощенные, умирающие воскресали к жизни.
Но человеку не только надо помочь жить. Человеку надо еще помочь умереть. Умереть достойно, по-человечески. И это, между прочим, хорошо понимала и понимает Церковь, облегчая душевные страдания умирающего словами утешения и отпущения земных грехов.
Ольга Берггольц не утешала, не отпускала грехов. Да и какие грехи были у блокадных ленинградцев? А если и были у кого, то они дотла вымерзли в лютом холоде тех дней.
Ольга Берггольц давала умирающим другую веру — веру в торжество жизни, в торжество света и разума, веру в Победу, в победу человека над оборотнем, над двуногим зверем.
Ольга Берггольц как человек умерла. Отмучилась. Кончились ее земные страдания, а их на ее долю выпало немало. Все муки, все беды эпохи сполна прошли через ее жизнь, через ее сердце. Физические недуги годами терзали ее. Но не будем оскорблять ее память слезами сентиментальной жалости. Покойница не любила этого. Она была мужественным человеком.
Ольга Берггольц прожила большую и завидную жизнь. Ей выпало великое и трудное счастье стать поэтической музой, поэтическим знаменем блокадного Ленинграда. И поэтому смерть ее необычна. Она перешагнула за порог жизни, чтобы обрести новую жизнь, обрести бессмертие, стать легендой. Она умерла, чтобы жить в веках. Жить столь же долго, сколько суждено жить нашему бессмертному городу на Неве.
* * *
18/XI-75
Я никогда бы не признал ее — так она изменилась. Ни дать ни взять в гробу лежит старая крестьянка-страстотерпица.
Да, чего-чего, а горя и мук она хватила. Первая барабанщица эпохи, и по ней же всей тяжестью своей эта железная эпоха.
Народу было порядочно. Больше, пожалуй, чем на всех панихидах, когда-либо бывших в доме 18 на Воинова. И все же, думал я, больше будет людей. Невпроворот. Весь Ленинград хлынет к Союзу писателей…
Блокадники, блокадники, — вы-то где? Своего первого поэта не смогли проводить в последний путь как следует. Или вас уже нету? Вымерли вы?
Я выступал. Не мог не выступить. Историческое событие. И, кажется, удалось мне растопить сердца. Многие плакали, многие благодарили, многие просто, без слов целовали…
Но была на поминках и суета, мелочность, попытка свести счеты с эпохой.
Верно, верно, хватила мук О. Б. Но разве поэт может быть вне мук и страданий эпохи? А многие выступавшие хотели без мук, без страданий войти в поэзию.
ДАНИИЛ ГРАНИН[402]
Похороны 18 ноября 1975 года
Вот и похоронили Ольгу, Ольгу Федоровну Берггольц. Умерла она в четверг вечером. Некролог напечатали в день похорон. В субботу не успели! В воскресенье не дают ничего траурного, чтобы не портить счастливого настроения горожан. Пусть выходной день они проводят без всяких печалей. В понедельник газета «Ленинградская правда» выходная. Во вторник не дали: что, мол, особенного, куда спешить. Народ ничего не знал, на похороны многие не пришли именно потому, что не знали. Газету-то читают, придя с работы. Могли ведь дать хотя бы траурную рамку, то есть просто объявление: когда и где похороны, дать можно было еще в субботу. Нет, не пожелали. Скопления народа не хотели. Романовский обком наконец-то мог отыграться за все неприятности, какие доставляла ему Ольга. Нагнали милиции и к Дому писателя, и на Волково кладбище. Добились своего — народу пришло немного. А как речей боялись, боялись, чтобы не проговорились — что была она врагом народа, эта великая дочь русского народа была врагом народа, была арестована, сидела, у нее вытоптали ребенка, ее исключили из партии, поносили… На самом деле она была врагом этого позорного режима. Никто, конечно, и слова об этом не сказал. Не проговорились. Только Федя Абрамов намекнул на трагедию ее жизни, и то начальство заволновалось. Я в своем слове ничего не сказал. Хотел попрощаться, сказать, за что любил ее, а с этими шакалами счеты у гроба сводить мелко перед горем ее ухода, заплакал, задохнулся, слишком много нас связывало. Только потом, когда шел с кладбища, нет, даже на следующий день заподозрил себя: может, все же убоялся? Неужели даже над ее гробом лжем, робеем?
Зато начальство было довольно. Похоронили на Волковой, в ряду классиков, присоединили, упрятали в нечто академическое. Так спокойнее. И вроде бы почетно. Рядом Блок, Ваганова и пр. Чего еще надо? А надо было похоронить на Пискаревском, ведь просила с блокадниками. Но где кому лежать, решает сам Романов. Спорить с ним никто не посмел. А он решает все во имя своих интересов, а интерес у него главный был — наверх, в Москву, чтобы ничего этому не помешало!
Надо было оповестить о ее смерти и по радио, и по телевидению, устроить траурный митинг, траурное шествие. Но у нас считают, что воспитывать можно только радостью. Что горе — это чувство вредное, мешающее, не свойственное советским людям. О своей кончине начальники не думают, мысли о своей смерти у них не появляется. Они бессмертны. Может, они и правы. Их приход и уход ничего не меняет, они плавно замещают друг друга, они вполне взаимозаменяемы, как детали в машине.
Машина эта и Ольгу, смерть ее тоже старалась перемолоть, пропустить через свое сито, через свои фильтры, дробилки, катки. Некролог, написанный Володей Бахтиным, написанный со слезами, любящим сердцем, — искромсали, не оставили ни одной его фразы. И то же сделали с некрологом Миши Дудина в «Литгазете».
Накануне я был у Ольги дома. Ее сестра, Муся, рвалась к ней ночью, домработница Антонина Николаевна не пустила ее. Какая-то грязная возня, скандал разразились вокруг ее наследства. Еле удалось погасить. А Леваневский, старый стукач, уже требовал передать ее архив КГБ (!).
На поминках выступала писательница Елена Серебровская, тоже сексотка, бездарь, которую Ольга терпеть не могла. На могиле выступал поэт Хаустов. Зачем? Чужой ей человек. Обозначить себя хотел? Вся нечисть облепила ее кончину, как жирные трупные мухи.
Мне все это напомнило похороны Зощенко, Ахматовой, Пастернака. Как у нас трусливо хоронили писателей! Чисто русская традиция. Начиная с Пушкина. И далее Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Есенин, Маяковский, Фадеев… Не знаю, как хоронили Булгакова, Платонова. Но представляю, как хоронили Цветаеву.
На поминках опять выступала Елена Серебровская, оговорила, что не была другом Ольги Федоровны, но должна сказать, как популярно имя Ольги Берггольц за границей и т. д. Не была другом — да Ольга ненавидела эту доносчицу, презирала ее. Она бы никогда не села с ней рядом, увидела бы ее за столом — выгнала бы, изматерила. Если бы она знала только, что эта падла будет выступать на ее поминках, жрать ее балык, пить ее водку, приобретенную на заработанные Ольгой деньги.