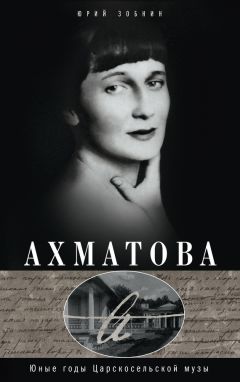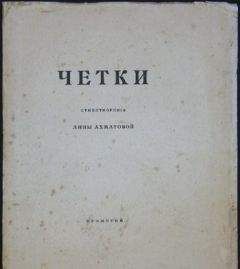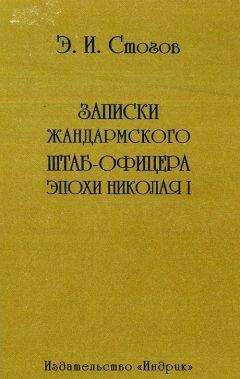«Мальчик мой весёлый», пишет, обращаясь к прошлому, Ахматова («В ремешках пенал и книги были», 1912), а Гумилёв говорит о ней, тогдашней, как о «девочке милой и скромной, наклонённой над книгой Мюссе» («Временами, не справясь с тоскою…», 1917).
Что с ней случилось, девочка милая не знала, ведь выросла она в деревне и ни разу ни от кого не слыхала даже слова «любовь». Томилась её душа, взоры рассеянно скользили, и только и говорила она, что о Дафнисе. Есть перестала, по ночам не спала, о стаде своём не заботилась, то смеялась, то рыдала, то вдруг засыпала, то снова вскакивала; лицо у неё, то бледнело, то вспыхивало огнём («Дафнис и Хлоя»).
Разумеется, эпоха декадентства вносила свои стилистические коррективы в эту пастораль. Понятно, что после «тайно-тревожных поцелуев» у ночного Карантинного кладбища Ахматова полагала, что знает о роковых страстях решительно всё, а Гумилёв хотел видеть свою подругу не иначе, как «радостною Евой для грядущих поколений» («Разговор»). Повинуясь куртуазным правилам символистов, он сочинял для зимних вечеров в доме Шухардиной волшебные истории. Он рассказывал, как некий гениальный скульптор изваял для знатного флорентийского вельможи статую дамы, любовь к которой стала единственной властительницей души могучего владыки. С раннего утра до поздней ночи с рыданиями и вздохами склонялся несчастный влюблённый перед недвижной статуей, и великая любовь сотворила великое чудо:
– Однажды, когда особенно чёрной тоской сжималось сердце вельможи и уста его шептали особенно нежные слова, рука статуи дрогнула и протянулась к нему, как бы для поцелуя…
Провожая гостя в тёмных сенях, заставленных ящиками и мешками для переезда, Ахматова вдруг спохватилась:
– Кажется, я потеряла кольцо… Посмотрите там, на полу, не видите?
Гумилёв едва наклонился, как её кисть, скользнув ему по лицу, на миг задержалась у губ.
– Нет, верно кольцо закатилось куда-то… Но чем же кончилась история вашего флорентийца?
– Лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, – отвечал Гумилёв, – и он стал сильным, смелым и готовым для новой жизни. А статуя так навечно и осталась с протянутой рукой[234].
По всему Царскому Селу насмешливо судачили, что младший сын почтенного Степана Яковлевича Гумилёва превратил одну из комнат дома на Средней улице в какое-то морское дно, изобразив при помощи гимназического приятеля-художника (В. Н. Дешевова) на всех стенах водоросли, лилии, раковины и – бледную ундину, имевшую несомненное портретное сходство[235]… Все эти забавные «декадентские» детали никак не нарушают общую картину полного благополучия влюблённых в первые месяцы 1905-го года.
Проблема в том, что для авторов многих современных жизнеописаний эта нехитрая истина остаётся тайной за семью печатями.
Тут сложились свои стойкие традиции, согласно которым Гумилёв должен непременно, всегда и всюду, выступать в качестве несчастного влюблённого, Ахматова же – оставаться неприступно-равнодушной. Сомневающихся отсылают к автобиографическим записям Ахматовой о том, как Гумилёв предлагал ей руку и сердце, как она отказывалась etcet:
Бесконечное жениховство Н<иколая> С<тепановича> и мои столь же бесконечные отказы наконец утомили даже мою кроткую маму, и она сказала мне с упрёком: «Невеста неневестная», что показалось мне кощунством. Почти каждая наша встреча кончалась моим отказом выйти за него замуж.
Никого почему-то не смущает, что речь и тут, и в нескольких других подобных репликах идёт о возможности (или невозможности) заключения брака, то есть к первым годам знакомства Ахматовой с Гумилёвым они никакого отношения не имеют. В миг любовного объяснения на пресловутой скамье в Регулярном парке даже Гумилёв, достигший по возрасту совершеннолетия, не завершил ещё гимназического курса. Об Ахматовой и вовсе говорить нечего. А это значит, что и само объяснение было иным, чем в грядущие «взрослые» годы, и Ахматову мы вовсе не обязаны видеть в роли жестокой упрямицы с достоевским «надрывом».
Для подобной роли ей ещё следовало ожесточиться.
Пока же события – пусть с поправкой на декадентские фантазии – не покидали, в общем, границ допустимого для царскосельских гимназических «парочек», и не вызывали, насколько можно судить, никаких особых переживаний ни у школьных наставников, ни у домашних в обеих семьях. Возможно, Андрей Антонович был, как обычно, недоволен новыми причудами «декадентской поэтессы», а родители Гумилёва, наверняка, без всякого энтузиазма отнеслись к постоянным визитам младшего сына в подозрительное семейство Горенко. Но от резкостей все воздерживались именно потому, что ни о каких «брачных партиях» никто и помыслить не мог. Если между самими «Дафнисом и Хлоей» возникали речи о грядущем любовном союзе (на той же романтической скамье близ «Тесея»), то лишь как грёзы о возможном, но достаточно удалённом будущем. И тут вновь, в который раз, в судьбе ранней Ахматовой неизбежно возникают классические литературные параллели:
– Как ни тяжёл мне будет этот год, отсрочивающий моё счастье, – продолжал князь Андрей, – в этот срок вы поверите себя. Я прошу вас через год сделать моё счастье; но вы свободны: помолвка наша останется тайной и, ежели вы убедились бы, что вы не любите меня, или полюбили бы… – сказал князь Андрей с неестественной улыбкой.
Речь даже не о том, что объяснение Гумилёва с родителями вышло бы, наверняка, не менее трудным, чем у толстовского героя со стариком Болконским. По действующим на тот момент законам, брачный возраст для женщин начинался с 16-ти лет, поэтому даже de jure «бесконечное жениховство» Гумилёва могло начаться лишь полугодом позже. Фактически же подобный брак был возможен только после гимназического выпускного бала – последний тогда считался «ярмаркой невест»[236]. Так что Гумилёву и Ахматовой зимой 1905 года было вполне позволительно беззаботно мечтать о чём угодно и разыгрывать влюблённость в своё удовольствие. Чем, надо полагать, они и были поглощены всецело, мало обращая внимание на окружающие новости, которые, день ото дня, становились всё фантастичнее, тревожнее и мрачнее.
Беспорядки, возникшие в столице вслед за уличной бойней 9-го января, были подавлены, но известие о Кровавом воскресенье прозвучало в разных уголках огромной страны как единый сигнал к действию для всех противоправительственных сил. В январе забунтовали Москва, Варшава, Лодзь, Рига, Киев, Харьков, Одесса, Екатеринослав, Саратов, Томск. С февраля забастовки и рабочие митинги, манифестации прибалтийских, польских и финских сепаратистов с вооружёнными стычками, поджоги и крестьянские возмущения пошли, нарастая, повсюду и уже не унимались. Вновь торжествовали эсеры-террористы: 4 февраля в самом сердце Первопрестольной, у Никольской башни Кремля (!), был в клочья разорван бомбой великий князь Сергей Александрович, командующий войсками Московского военного округа и бывший генерал-губернатор[237]. Кошмарные подробности этого злодеяния внезапно стали… источником весёлых анекдотов, циркулировавших в студенческой и чиновничьей среде. На все лады повторялась острота о том, что «Его императорскому высочеству пришлось пораскинуть мозгами».
Об убийце – Иване Каляеве – газеты писали с почти не скрываемым восхищением. По свидетельству очевидцев, в Москве царило тогда чуть ли не праздничное настроение, и «лишь в отдельных случаях слышалось озлобление и негодование, но это исходило из самой тёмной и некультурной среды».
Возможно, разбушевавшееся общество могли бы как-то утихомирить победные сводки из Манчжурии, где с начала февраля разворачивалось грандиозное сухопутное сражение у занятого русскими Шэньяна (Мукдена). Но военные корреспонденции были странны и уклончивы: «Японцы за последние бои постарались усиленно раздуть несуществующую победу на нашем правом фланге» (24 января); «Маршал Ояма доносит, что японские войска после занятия Цинхечен идут по пути русских на север» (17 февраля); «Десятидневный кровопролитный бой не только не утихает, но и становится упорнее. Количество снарядов, выпускаемых обеими сторонами, громадно. После того как наш левый фланг завернулся к северу, переменив фронт против обходной японской колонны, оба противника упорно держаться на своих позициях. Отдельные пункты на западе переходят из рук в руки ценою больших потерь» (22 февраля, 5 ч. 30 м. дня). Наконец 24 февраля мир облетели две «молнии» агентства «Рейтер», перепечатанные, без комментариев, русскими газетами:
ТОКИО, 24,II-9,III. («Рейтер»). Вчера сражение шло по всему фронту успешно для японцев, вытеснивших русских с важных позиций. Ночью генералу Куропаткину явилась необходимость отойти. В районе армии Оку осталось 8 000 русских убитых; остальной армии причинен втрое больший урон.
ТОКИО, 24,II-9,III. Хотя размер успеха японцев ещё не известен, но Токио уже празднует победу. Город украшен флагами, толпы народа на улицах раскупают специальные издания газет, поздравления приносят военному министерству и главному штабу…