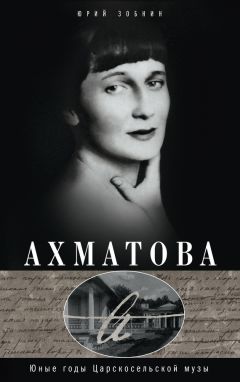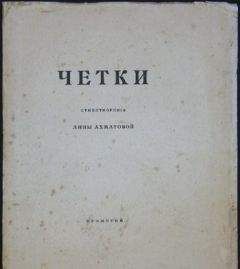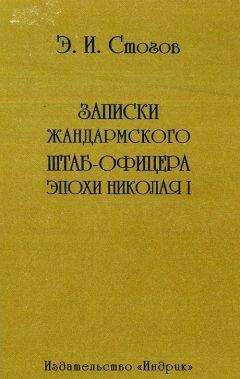«По въезде в Царское дорога проходила под обоими так называемыми Капризами, то есть арками с фантастическими башенками в китайском вкусе, соединяющими два обширные царские сада. По обе стороны дороги величественно тянулись покрытые снегом деревья и аллеи с изящными беседками и мостиками», – так описывал упомянутую Ахматовой местность между Екатериниским и Александровским парками Я. К. Грот.
Однако нельзя не заметить, что этот реальный маршрут масляничных «веек» 1905 года под пером сорокасемилетней Ахматовой мыслится дорогою в смерть[243]. «Чёрным вечером» по «зловещему парку» ведёт она к «мёртвой воде» и «лебедям», которые со времен Жуковского в царскосельской поэзии всегда считались существами более поту– чем посюсторонними:
Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый,
Как же нелюдимо ты, отшельник хилый,
Здесь сидишь на лоне вод уединенных!..[244]
Существенная деталь: гибельной «древнюю подкапризовую дорогу» делают для Ахматовой невероятно сильные, экстатические эмоции, «счастье и веселье», возникшие внезапно и как бы извне, подобно «ветру, летящему с небесных круч». Этот традиционный образ внешнего наития, одержимости или вдохновения знает Библия (вспомним, хотя бы истомленного и мятежного страдальца, которому разгневанный Господь «отвечал из бури» (Иов. 38. 1)), знает Данте, описывая волшебный ураган в адской пропасти сладострастия (Ад, песнь V) знают бесчисленные народные маги, о чём ярко писал досконально знакомый с предметом Александр Блок:
В этом ветре, который крутится на дорогах, завивая снежные столбы, водится нечистая сила. Человек, застигнутый вихрем в дороге, садится, крестясь, на землю. В вихревых столбах ведьмы и черти устраивают поганые пляски и свадьбы; их можно разогнать, если бросить нож в середину вихря: он втыкается в землю, – и поднявший его увидит, что нож окровавлен. Такой нож, «окровавленный вихрем», необходим для чар и заклятий любви, его широким лезвием осторожно вырезают следы, оставленные молодицей на снегу. Так, обходя круг сказаний о вихре, мы возвращаемся к исходной точке и видим, что в зачарованном кольце жизни народной души, которая до сих пор осталась первобытной, необычайно близко стоят мор, смерть, любовь – тёмные, дьявольские силы («Поэзия заговоров и заклинаний»).
Действие подобного «ветра с небес» и обуяло Ахматову в миг, когда она в «чёрный масленичный вечер» 1905 года скользила в разукрашенной «вейке» под Большим и Малым капризами бок-о-бок с элегантным и равнодушно-холодным двадцатишестилетним универсантом, устремлявшим на соседку спокойный взор близоруких светлых глаз. Как и Блок, Ахматова видела в этом внезапном вихре нашествие «тёмных, дьявольских сил», искалечивших всю дальнейшую жизнь:
Закинув голову на подушку и прижав ко лбу ладони, – с мукой в голосе:
«И путешествия, и литература, и война, и подъём, и слава – всё, всё, всё – только не любовь… Как проклятье! Как… И потом эта, одна-единственная – как огнём сожгла всё, и опять ничего, ничего…»[245]
Античные язычники недаром видели источником зарождения и развития эротической страсти (έρως), в отличие от естественных проявлений духовной или сексуальной любовной привязанности (ἀγάπη, στοργή), не человеческое чувство, а вид самостоятельно существующей безличной космической силы, вроде прародительной Φιλία Эмпедокла, «соединяющей разнородные формы в единый порядок»[246]. Поэтому возникновение такой любви считалось столкновением с роком, жизненной катастрофой, σκάνδαλον[247]. А христиане, не мудрствуя, прямо говорили о стрáстной любви как о бесовском прельщении (прелести), соблазне сотворения кумира и подмены истины «Бог есть любовь» (1 Ин. 4. 8) извращенной ересью «Любовь есть бог». Позднее, прагматики-рационалисты объявили стрáстную эротическую одержимость особым видом нервного расстройства, близким к истерии, а мечтатели-романтики, напротив, подняли на щит, почитая болезненную обострённость чувств исключительным признаком одарённой творческой натуры. Но все сходились, что опыт стрáстного эроса является, в общем, трагическим и ущербным, родственным алкогольному или наркотическому угару.
У Ахматовой, пережившей в 1905 году подобный опыт сполна, наваждение страсти прежде всего противно совести. Собственно, с этого она и начинает:
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей…
Страстный эротический порыв, едва зародившись, меняет мышление, не просто заставляя (как естественное любовное чувство) считаться с присутствием другого существа в собственной жизни, но делает это присутствие главным смыслом, болезненно «сужает» картину мира до единственного желанного образа. В своём развитии он парализует волю и разум, побуждая существовать как бы в особой системе координат, поминутно совершая поступки против обычной жизненной логики, часто вопреки выгоде, достоинству, репутации, а то и простому приличию. Одухотворённое страстью половое влечение возносится до рода фанатической религиозности, вдохновляющей на любые усилия, преступления и жертвы, непредставимые в ходе обычного порядка вещей. И если всё не обрывается подлинным безумием и гибелью, то оставляет глубокие и необратимые последствия, подобные уродствам от перенесённой травмы. Болезнь уходит, но «болезненность» остаётся, продолжая задевать и тех, кто не имел отношения к пережитой трагедии.
Памяти одной из таких нечаянных жертв (Н. В. Недоброво) и посвящено стихотворение 1936 года[248]. А первой жертвой рокового «чёрного масленичного вечера» стал, конечно, Гумилёв, который, по выражению Ахматовой, впал в настоящее отчаяние «от её нежелания всерьёз отнестись к его чувству». То есть «милая и скромная девочка» вдруг обратилась неприступной и язвительной фурией и потешалась над «названным братцем» как могла. Где-то, вероятно, в середине марта он пробовал осторожно недоумевать, и вышла ссора. В позднейшей автобиографической стилизации Гумилёва «Радости земной любви» (под дантовскую «La Vita Nuova») читаем:
Она не понимала, как осмелился он подойти к ней на улице и даже говорить о своей любви. Разве он не знает, как тяжело и непристойно для благородной дамы выслушивать такие вещи?
И, не закончив свою речь, с лицом, розовым от обиды и напоминающим индийский розоватый жемчуг, она скрылась за массивной дверью своего дома.
К чести Ахматовой, следует сказать, что безумствуя в своей новой любви, она – по крайней мере, первое время – находила силы трезветь и тогда, сострадая и, вероятно, ужасаясь происходящему, отправляла Гумилёву некие извинительные и успокоительные послания, из которых тот мог видеть, что не утратил её благосклонность, и «утешать себя мыслью, что эта нежная дама равно недоступна для всех» («Радости земной любви»). Бедная Хлоя, одурманенная тёмными чарами, почти потерявшая рассудок и захваченная в плен, она всё-таки машинально продолжала любить своего Дафниса! Или, если переместиться с литературными параллелями ближе во времени:
Она во всей прежней силе вспоминала свою любовь к князю Андрею и вместе с тем чувствовала, что любила Курагина. Она живо представляла себя женою князя Андрея, представляла себе столько раз повторенную её воображением картину счастия с ним и вместе с тем, разгораясь от волнения, представляла себе все подробности своего вчерашнего свидания с Анатолем.
«Отчего же бы это не могло быть вместе? – иногда в совершенном затмении думала она. – Тогда только я бы была совсем счастлива, а теперь я должна выбирать, и ни без одного из обоих я не могу быть счастлива».
Элемент воспалённого бреда со всеми его противоречиями и абсурдами, очевидно, присутствовал в её жизни в течение всего наступившего за масленичным февральским карнавалом Великого поста. Десятилетием позже, в одном из стихотворных набросков, Ахматова, пытаясь на холодную голову осмыслить тогдашние переживания, вновь, как и в случае со стихотворчеством, рисует подобие «клинической картины»:
Угадаешь ты её не сразу
[Жуткую и тёмную] заразу,
Ту, что люди нежно называют,
От которой люди умирают.
Первый признак – странное веселье,
Словно ты пила хмельное зелье,
А второй – печаль, печаль такая,
Что нельзя вздохнуть, изнемогая,
Только третий – самый настоящий:
Если сердце замирает чаще
И горят в туманном взоре свечи,
Это значит – вечер новой встречи…[249]
А что же Владимир Викторович Голенищев-Кутузов, обнаруживший во время масленичных гуляний столь приятную покладистость в обхождении у средней из сестёр Горенко?
Он был, по-видимому… очень рад.
Гумилёв, описывая соперника во второй новелле «Радостей земной любви» (где Ахматова именуется Примаверой, а alter ego – Гвидо Кавальканти[250]), называет Кутузова «заезжим венецианским синьором», о чьём «скорее влюблённом, чем почтительном преклонении перед красотой Примаверы» «говорила вся Флоренция»: