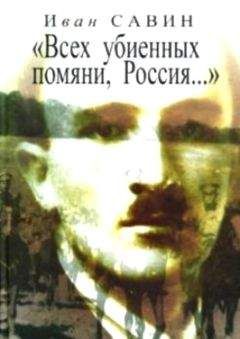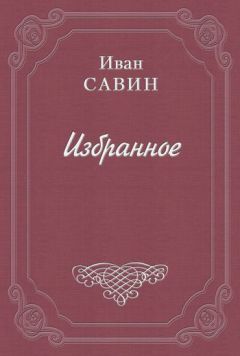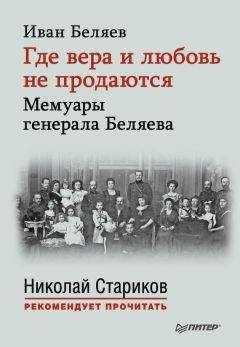Когда я вижу женщину в платье, которое с одинаковым эффектом можно было бы надеть вверх ногами, ибо и в первом и во втором случае оно одинаково безобразно, мне хочется подойти к ней и сказать:
— Зачем вы себя уродуете? Зачем вы надели на себя чехол с люстры? Как вы не можете понять, что этот халат пошл, старит вас, делает вас смешной?
Когда я вижу на улице даму в сюртуке, котелке, со стеком в руке, мне хочется обратиться к ближайшему полицейскому с требованием прекратить это нарушение общественного порядка. И если я не делаю этого, то только потому, что полицейские, как и котелковые дамы, ничего не понимают ни в красоте, ни в женственности.
Раньше фасоны новых платьев рождались в голове художников Божьей милостью, поэтов своего дела. Раньше каждый новый танец принимался только в том случае, если он был красив, плавен, грациозен.
Теперь мода на то и на другое основывается на доказательстве от обратного:
Фокстрот гадок? Он завоевал все танцульки. «Гарсон» превращает женщину в рыжего из цирка — перед ним склонились головы всех дам мира. Прежде женщины из кожи лезли, чтобы показать платье, а теперь лезут из платья, чтобы показать кожу? Да здравствует декольте до пояса и юбки выше колен!
Бабушка, вы вся из эпохи гавота. Мы все — из южноамериканского кабака. Какой-то пьяный матрос в таверне Сан-Франциско или Калькутты, вспоминая давно забытый вальс, начал выделывать под сиплый граммофон па, не похожие ни на какой танец. Лорнирующей его английской мисс из самых «эстетных» нетрезвые телодвижения показались ужасно милыми. Их повторили в Нью-Йорке, потом Париже, потом Лондоне. Так родился фокстрот. Кто скажет, в какой пивной появились впервые тустеп, уанстеп, шимми, все то несказанно мерзкое, безмерно пошлое, что с таким усердием повторяют наши сестры, дочери, жены на, извините за выражение, «танцевальных» вечерах?
И разве шимми и платьеобразный чехол — завершение «культуры»? Кто знает, не станет ли завтра модным «танец пирата, на мачте раскалывающего себе голову бутылкой виски» или платье «фасона — не ваше дело». Ведь есть же теперь фасон юбки — «милости просим», или, как его здесь называют — «olkaa hyva»…
Бабушка, милая бабушка, нет у нас красоты, мужества нет одним взмахом выбросить всю эту гниль. Да и не хочется как-то. Все равно рабы пьяной моды каждый протест встретят все тем же словом: «Мещанство!»
Томик Парни, роза, кружевной платок… Гавот, полонез, сарабанда… Кринолины, пушистый паутинный парик, локоны… Да будут навсегда, навсегда трижды благословенны эти «мещанские», эти сказочные годы!
(Новые русские вести. 1925. 25 января. N9 330)
Если серьезно подойти к вопросу о завоеваниях революции, главнейшим из них (если не единственным) следует признать ненависть к революции и, как следствие этой ненависти, — немного грустную, немного стыдливую любовь к прошлому и слишком позднее раскаяние в том, что былое золото жизни мы так неразумно разменивали на дырявые пятаки житейской пошлости.
Целую груду таких медяков оставили мы на родных пепелищах. В том же пепле брошено и начало наших мелкомонетных благоглупостей, некогда отравлявших нашу, право же, хорошую жизнь. Я говорю о своеобразном недуге русского интеллигентного — или мнившего себя интеллигентным — общества, недуге властно вкоренившемся в нас с молоком матери. Если бы существовала специальная наука по изучению и классификации общественно-бытовых болезней, этот недуг был бы назван боязнью мещанства, своего рода мещанофобией, мещанобоязнью.
Вы помните, конечно, этих набитых пустотой и пресным «эстетством» людей, которые и денно и нощно попугайствовали: «Ах, это такое мещанство, провинциализм, моветон!»
Еще никем и никогда не было доказано, что столица, собственно, и поставлявшая в изобилии подобного рода двуногие граммофоны, нашла ключ к правильному уразумению житейской мудрости: наоборот, многочисленными примерами можно доказать, как вянет всяческая человеческая радость в дымных тупиках больших городов.
Но для оскаруальдствующих обывателей здравый смысл был камнем, привешенным на шею «мещан». Да и радость, покой, счастье, в конечном счете, не стоят пары пустозвонных слов в высоком стиле. Главное — оригинальность до жалкого безвкусья, сальто-мортале мысли, костюмов, привычек.
Господи, сколько таких узколобых законодателей портило кровь себе и другим!
Появится где-нибудь Марья Петровна в прелестном по рисунку, чрезвычайно к ней идущем платье, но розовом, вся губерния вне себя:
— Представьте… какой ужас… Марья Петровна на балу в дворянском собрании была в… розовом платье. Розовом! Нет, вы подумайте!
И та, которой предлагали подумать, хотя это и не было в ее привычке, не только думала, но и изрекала целый сноп истин:
— Ничего удивительного, Марья Петровна совсем парвеню: она до сих пор любит своего мужа! Слава Богу, я не такая. Вот недавно, например, выписала почти из Парижа платье цвета давленой мыши и замечательного фасона: с первого взгляда даже не разберешь, где верх, где низ. Правда, мой Базиль говорит, что от одного цвета моего нового платья может затошнить, но ведь он совсем не эстет!
Читаете вы что-нибудь, подходит один из пророков «бытовой эмансипации» (была и такая), скептически кривит вдохновенное лицо и говорит так, будто у него полон рот песку (тоже модно было):
— Читаете?
— Нет, рыбу ужу. Видите, кажется!
— Не волнуйтесь, это не оригинально. Тэк-с. А что читаете?
— «Евгения Онегина». Неувядающая вещь. Век прошел, а Пушкин все так же прекрасен.
Пророк в ужасе всплескивает руками, и у него изо рта начинает сыпаться песок давно уже набивших оскомину слов:
— Как? Пушкина? А Державина вы не читаете? Да знаете ли вы, что теперь уже и Чехова считают банальным? Вот возьмите-ка лучше это — самый модный автор!
И вам суют напечатанный на слоновой бумаге бред одного из тех шутов от литературы, что во время оно бегали по Москве и Петербургу в желтых кофтах, а ныне лизоблюдствуют у большевиков.
Мещанобоязнь, чего и следовало, конечно, ожидать, превратилась в конце концов в такую обывательскую труху, от которой подчас прямо тошно делалось. Куда ни плюнь — везде «мещаноборец», да еще какой! С апломбом, с мизерным от природы, да еще заутюженным пошлостью умом, с жалкими потугами на «философию», вроде того мало обещающего юноши, который всю европейскую и азиатскую Россию объездил с лекцией на тему: «Мещанство ли Бог?»
И юношу слушали. Некоторые даже восхищались, когда эстетствующий недоросль, выгнанный из пятого класса гимназии за громкое поведение и тихие успехи, паясничал на эстраде: «Какое развитие, какой ум!»
Мудрено ли, что в результате такого «развития» добрая половина «мыслящей» части русского народа оказалась во власти свода законов по «немедленному хорошему тону»? Чего только не было в этой хартии обывательского рабства!
Оригинальность только тогда оригинальность, когда она оригинальна. Вне этого все клоунады на канате изысканности есть не что иное, как самое неприкрашенное мещанство, отвратительное в своей трафаретности, заезженности, обмусоленности. Можно любить соловьев (разве их можно не любить?), можно часами ловить в сиреневом хрустале неба длинные копья луны и вместе с тем не только не быть «мещанином», но и понимать прекрасное во сто раз глубже, чем господа эстеты в кавычках.
Быть может, это понятно хоть теперь, когда все потеряно и мещанство, и немещанство. Быть может, не только я с огромной радостью отдал бы все наше «сегодня» с его бешеной погоней за лишним куском хлеба, с его никогда еще небывалой действительной вульгарностью мысли, слова и дела, с уличной пошлостью его танцев, его кино, профанирующих настоящее искусство его продажностью и гнилью, — за наше мертвое «вчера», за милый сад с соловьями, за уютную воркотню самовара, за зеленые червонцы луны, рассыпанные щедрым небом по темным дорожкам, за глухой, будто стыдливый плач родного рояля, за самое простое счастье, за самую обыденную жизнь, за самый маленький покой. За то, что никогда не было «мещанством», что всегда было жизнью и что теперь стало мечтой.
(Новые русские вести. 1924. 16 марта. № 75)
(размышления обывателя)
В былые времена, ну, скажем, лет с десять тому назад, от одного только слова «свобода» весьма многие достойные люди в раж входили и некоторые даже слезу умиления пускали. А вот теперь, можно сказать, совсем наоборот: скажет головотяп какой — «свобода», а у тебя, извините за выражение, к горлу клубок подкатывается. Так, кажется, и смазал бы головотяпа.
Очень, должен сознаться, удивительно все это. Раньше свобода интересной дамочкой была, в кисейном одеянии, с мечом в руке. Может, конечно, он картонный был, меч-то этот, и кисея напрокат взята, а все же умилительно. Нынче же дамочка сия, как говорят, чудодейственным образом в удочку превратилась: на одном ее конце — червяк, а на другом — дурак. Сидят это, значит, товарищи-рыболовы с удочками-свободами и простачков из мутной водицы вылавливают. А ученые люди, которые знатоки по этой части, считают даже свободу куда проще удочки, потому в ней, в свободе, и червяков нет — одни дураки.