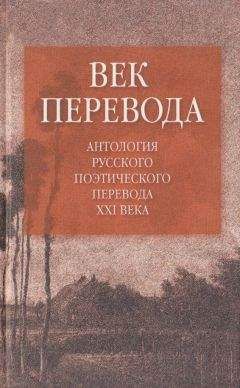КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ{256} (1905–1953)
А вот и ночь, и танцы снов,
и в небе — полумесяц вновь,
как половинка от секрета, —
так говорил я в давний час,
когда такой же месяц гас,
гас над тобою в час рассвета.
Взглянув на небо, на огни,
ты попросила: «Измени
сей месяц; ждет он исполненья».
И — полнолуние! И вдруг
отсек луны зеркальный круг
уста от уст без сожаленья.
Помоги мне, мокрая долина,
исцели погодою нежданной,
жизнь настрой мне, как орган старинный, —
пусть она звучит трубой органной.
Жизни суть запрячь в трубу любую —
как собаки, трубы чтоб скулили.
Пальцам дай страданье — пусть тоскуют,
чтоб не только очи слезы лили.
Беды нас какие бы ни ждали —
пусть погибель мира впереди, —
никогда не будешь ты в печали,
если крик найдешь в своей груди.
Вытащит, как раненого с поля,
даст твой крик спасение тебе.
В зове помощь слышится и воля,
и вершина милости — в мольбе.
ПАВОЛ ОРСАГ ГВЕЗДОСЛАВ{257} (1849–1921)
«Род человечий! Вижу я, скорбя…»
Род человечий! Вижу я, скорбя:
Ты ныне — враг Христовым повеленьям;
Велел любить Он ближних с умиленьем,
Сердечно, беззаветно, как Себя.
Зачем же Он, страдая и любя,
Нас подарил спасительным ученьем?
Брат брату угрожает истребленьем,
Жестоким адским пламенем губя.
Нет ни в морали, ни в культуре прока,
Когда тебя так ослепила страсть,
И ты, как зверь, злодействуешь жестоко.
Венец из звезд носи, коль хочешь, всласть:
Благую весть забыв во тьме порока,
До вести злой сумел ты ныне пасть.
ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА{258} (1895–1962)
Из лачуги за тихим леском —
Той, где дверь за порог завалилась, —
Мне к парадному входу в «губком»
Принести свою юность случилось:
Как на вилах, нацеплена там,
Кровенеет мужицкая шкура,
Чтобы лаяли псы по кустам,
Чтобы лисы скулили понуро…
Средь растущих до неба дорог
Пробегают в чулочках девчата,
Голубиною стайкою ног
На Крещатик влетают крылато.
Эти ноги белы и чисты —
Так белеют, как лилии ранью,
Словно выпили воду цветы
От степей зоревого купанья.
Кто ж содрал эту шкуру с отца,
Нацепил ее прямо над нами
И твердит — мол, свобода с крыльца
Развернула багряное знамя?
Душегуба не видно теперь,
Только знаю: он рядом таится;
Коль в толпе не скрывается зверь —
Для кого ж эта шкура дымится?
Помню: детство плеснули во тьму,
В степь из миски мужицкой пролили!
Ныне ведаю я, почему
Здесь детей никогда не любили;
Почему — догадался я — мне
Материнской любви не досталось
И луна молодая в окне
Мне кнутом в этом детстве казалась…
Знаю я, почему за забор
Меня гонят, как пса, неустанно,
Почему свой бунтующий взор
От земли поднимать я не стану.
От моих, от мужицких корней
Свирепеют иные — я знаю,
Но мое озлобленье сильней:
В нем вулканная сила взрывная!..
Веет ветер степной на «губком»
И, на улицу брызгая кровью,
Развевает в просторе слепом
Эту шкуру, как будто коровью…
МИХАЙЛО ОРЕСТ{259} (1901–1963)
Ты скрыт теперь за преградою,
О мой величавый град, —
Одной для души отрадою
Стал памяти аромат.
Ты нам — святое знамение,
Ты небом отмечен был;
Святилось твое рождение
Любовью нездешних сил.
Увидишь — даю в том слово я —
Без счета весен и лет,
Ты встретишь рожденье новое,
Росистого утра свет.
Лучи над твоими склонами,
Небес твоих чистых синь
Приснятся мне, утомленному
Ушедшей жизнью. Аминь.
«В долине светлый дым клубится…»
В долине светлый дым клубится,
Стремясь в объятья высоты,
И взор не может не плениться
Легчайшим маревом мечты.
Цветов, пахучих зелий дрёма,
Ручей серебряный в траве,
А в тайной дали окоёма —
Струится миро по листве.
Под крова дремлющего своды
Что я сумею принести?
Что мне оставили невзгоды,
Что сам оставил я в пути?
Я, как зерно в волнах потока,
С позором встретился и злом,
Избиты бурями жестоко
Щит сердца и ума шелом.
Но вера путь мне указала,
Я в тьме скитаний не зачах —
И вдруг пред взглядом воссияла,
В чистейших утренних лучах,
Та долгожданная долина,
Простор пьянящих светлых чар,
Где для усталых рук судьбина
Готовит, знаю, дивный дар.
Зарою эхо нестерпимой
Минувшей боли, прежних бед —
И в ясности неугасимой
Вступлю в обетованный свет.
Стремясь к приюту и привету,
Пойду я радостным путём
На дым, что воспаряет к свету —
Из рая в рай, из дома в дом.
ГОВАРД ФИЛЛИП ЛАВКРАФТ{261} (1890–1937)
Тот дом стоял во мраке и пыли
Аллей старинных; из далеких стран
Соленым морем пахнущий туман
Ветра к причалу с запада несли.
Я в окнах дома, проходя вдали,
Заметил, любопытством обуян,
Нагроможденья книг, что, как бурьян,
От пола и до потолка росли.
Загадкой очарован, я проник
В хранилище, нарушив древний сон,
И, в руки взяв одну из старых книг,
Рассказом был как громом оглушен.
Я поднял взгляд, дыханье затая, —
И жуткий хохот вдруг услышал я.
По улицам я бешено бежал,
Прижав находку страшную к груди,
Сквозь переулки; сумрачный причал
За мной уже остался позади.
Я всё пытался скрыться в глубине
Кирпичных стен и с окнами, и без;
Последнею надеждой были мне
Спасительные проблески небес.
Никто не видел, как я взял ту вещь,
Но эхом смех преследовал меня;
Ночной лишь сумрак, темен и зловещ,
Меня мог спрятать, книгу сохраня.
Я в страхе мчался, книга жгла ладони,
А сзади топот — будто от погони.
Не знаю я, что ветром занесло
В мой прежний дом, но, трепеща теперь,
Я понимал, что это было зло —
Уйти отсюда и захлопнуть дверь.
Мне книга открывала тайный путь
Сквозь все преграды, что хранят в себе
То прошлое, что нам нельзя вернуть
И что не повторить в своей судьбе.
Теперь имел я ключ от всех видений —
Лучей заката, сумрака лесов;
И был я непонятный людям гений,
Закрывший свою память на засов.
Пока сидел я, бормоча немножко,
Вдруг затряслось закрытое окошко.
Вновь день настал, когда юнцом я был
И видел, как столетние дубы
Тумана обвивавшие клубы
Душили изо всех безумных сил.
Как и тогда — алтарь среди могил,
Землей укрывших черные гробы;
Был высечен на камне знак судьбы
И жертвенный костер вовсю чадил.
И, тело, распростертое на нем,
Вдруг увидав, я понял, что попал
На страшный Юггот и что я не спал —
Здесь эоны пытали жертв огнем.
Тут жертва испустила смертный крик —
И я себя узнал в ней в тот же миг!