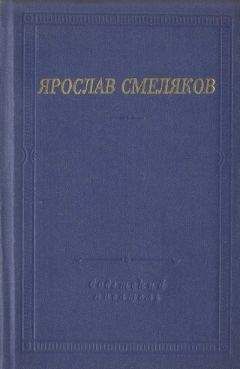326. ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
(Из поэмы)
1
На лодке
вдоль северных суровых берегов
в расшитой ландышем
большой косоворотке,
скучая, ехал фокусник Попов.
На сотни верст,
в своей одежде красной,
уйдя корнями в толщину земли,
деревья севера —
могуче и бесстрастно —
в лесном молчанье
медленно росли.
У берегов стояли валуны.
Шли облака,
колючих крон касаясь.
А по реке,
томительно качаясь,
плыл на плечах светящейся волны
серебряный
холодный
шар луны,
в пустынном небе смутно отражаясь.
2
Что фокуснику — небо?!
Будто бог,
он развалился на смолистом днище,
в дырявый зуб,
пришептывая,
свищет
тот милый марш, который только мог
быть сочинен безвестным музыкантом
в другой стране, в иные времена.
Что фокуснику значит тишина,
когда он слышал зрителей молчанье,
когда он шел, прославлен и силен,
взволнован женщин сдавленным дыханьем,
польщен мужчин критическим вниманьем,
толпою любопытных окружен.
Что звезд ему холодное мерцанье,
когда он сам за жизнь свою не раз
был освещаем фонарей сияньем
и светом, льющимся из детских глаз.
Играли марш —
и в одеянье белом
он выходил, медлительный, худой,
в святой чалме, украшенной умело
тяжелою бенгальскою звездой.
Юпитера гудели в тишине,
и, опровергнув книги и науки,
красавица на сцене, как во сне,
летела ввысь, заламывая руки.
И глухо ахал побежденный зал,
когда,
согласно тихому веленью,
как легкий вздох, как дивное мгновенье,
вдруг
человек со сцены исчезал.
Лишь он стоял — торжественный, без слов.
А голуби из длинных рукавов,
шумя, летели,
медленно кружились
и, замерев над гордой головой,
над сказочной индийскою чалмой,
на плечи повелителя садились.
3
Успех непрочен.
Славы свет — мгновенен.
Недолго длится сладкий интерес.
И вскоре фокусник в чаду сомнений
узнал, что на земле,
как, впрочем, и на сцене,
не может быть пленительных чудес.
Те зрители, что прежде, в самом деле,
во время представления худели,
теперь, на тех же обжитых местах,
зевают нагло, морщатся отвратно
и — никаких иллюзий! — безвозвратно,
как молодость, скрываются в дверях.
Те мальчики, что так еще недавно
его считали фокусником главным, —
вбегают в зал, пылая и грозя,
гнилыми яйцами в него бросают,
его афиши бритвами кромсают,
свистят на перекрестках.
Летающая женщина сказала,
что вся любовь давным-давно прошла,
что он — подлец,
что он ей платит мало,
трельяж разбила, полочку сломала
и к тенору в любовницы ушла.
А голуби, поворковав умно:
«Мол, дескать, что там, право, в самом деле», —
теряя пух, в разбитое окно
от нищеты и горя улетели.
4
Пейзажи севера однообразны.
Но много я готов сейчас отдать,
чтоб мне опять случилось в жизни праздно,
среди цветов, кривых и безобразных,
на берегу Синеги отдыхать.
Полутона темнеющего неба
и берегов таинственный покой
повторены, как зеркалом волшебным,
журчащею вечернею рекой.
Как я любил, бывало, без движенья
глядеть часами в меркнущую гладь,
вдруг сразу разучившись отраженье
от собственного тела отличать.
Здесь он и едет, падший бог обмана,
с утра хмелен, который день небрит.
На дне обшарпанного чемодана
его мечта разбитая лежит,
еще чалма, измятая в скитаньях,
коробка пудры, баночка белил
да трубка Англии, что в час прощанья,
в ночь пьяных слез, в минуту расставанья
ему в пивной шталмейстер подарил.
За поворотом сумрак станет мраком.
Скорее бы хоть курная изба!
«Скажи на милость, все-таки, однако,
куда меня, отметив страшным знаком,
проклятая забросила судьба?..»
<1940>
327. ЛАМПА ШАХТЕРА
(Из поэмы)
На полуночном небе
созвездье блестит.
В поселковом Совете
дежурный сидит.
Электрический свет —
словно жидкий янтарь.
На стене прикреплен
отрывной календарь.
Как дежурный
листок от него оторвет —
над полями и шахтами
солнце встает…
…Над полями и шахтами
солнце встает.
Михаил Кузнецов
на работу идет.
Комсомольский значок
на его пиджаке,
да шахтерская лампа
в тяжелой руке.
Эту вечную лампу —
стекло и металл —
сыну в день своей смерти
отец завещал.
И велел-наказал
по крутому пути
до высот коммунизма
ее донести.
До вершин коммунизма
добраться, дожить
и шахтерскую лампу
на них засветить.
По стране пятилеток
несет паренек
завещанье отца —
дорогой огонек.
А в заморской стране
тренируют солдат,
в барабаны стучат,
в микрофоны трубят,
собирают в поход
изо всех городов
трудового народа
заклятых врагов:
«Лампу надо разбить
и огонь затушить,
а шахтерского сына
в тюрьме задушить».
Но шахтерскую жизнь,
словно сказочный клад,
охраняют полки,
эскадрильи хранят.
Все шестнадцать республик
склонились над ним,
как шестнадцать сестер
над братишкой своим.
А потом — у него
за туманом морей
на десятки врагов —
миллионы друзей.
На огонь его лампы
с любовью глядит
и рабочий Париж,
и подпольный Мадрид.
Берегут ее свет
джокьякартский батрак,
итальянский шахтер
и британский горняк.
На высотах высот,
в память наших отцов,
скоро лампу зажжет
Михаил Кузнецов.
Под надежным стеклом
золотись, огонек!
Вейся, красный флажок —
комсомольский значок!
Бедняцкую ниву
пожег суховей.
Зовет Никанор Кузнецов
сыновей:
«Идите за счастьем,
родные сыны,
в три стороны света,
на три стороны.
А нам со старухой
три года не спать:
и ночью и днем
сыновей ожидать…»
По небу осеннему
тучи плывут.
Три сына, три брата
за счастьем идут.
И старший, меж голых
шагая берез,
в ночлежку на нары
котомку принес.
А средний прикинул:
«Пути далеки —
я к мельнику лучше
пойду в батраки».
А младший крамольную
песню поет.
А младший за счастьем
на шахту идет.
Тяжелою поступью
время прошло.
И первенец входит
в родное село.
Три добрых гостинца
несет он домой:
пустую суму
за горбатой спиной,
дырявый зипун
на костлявых плечах
да лютую злобу
в голодных очах.
И в горницу средний
за старшим шагнул,
его в три погибели
мельник согнул.
Ему уже больше
не жать, не пахать —
на печке лежать
да с надсадой дышать.
Под ветхою крышей
тоскует семья.
Молчит Никанор,
и молчат сыновья.
А сына последнего
в Питер на суд
на тройке казенной
жандармы везут.