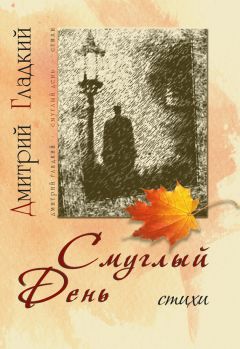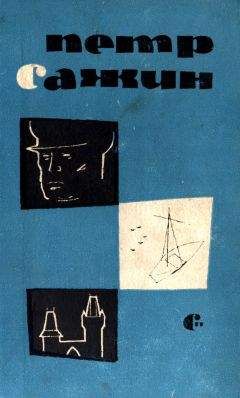Стихотворения из цикла «Альковы»
…Когда же я понял, что любовь к своим детям –
не инстинкт, надиктованный свыше,
не страх одиночества, не догмат продолжения себя,
а желанный и тяжкий пожизненный труд?
Не тогда ли, когда сорванцом семилетним
убегал я на озеро с удочкой утром,
а вечером мама стирала мою одежду?
Склоняясь над тазом с отбитой эмалью, она
сокрушалась,
жалуясь мыльной воде, что штанов и рубашек
не напасешься на этого непоседливого мальчишку.
А я перед сном забавлялся игрою фантазий,
дивился бамбуковой гибкости
маминого позвоночника,
сравнивая его с удилищем, выгнувшимся
над пенными волнами
под тяжестью сказочной рыбы, которую мама
тянет из таза –
той самой, что непременно исполнит три
моих сокровенных желания.
Сейчас, когда приезжаю навестить
постаревшую маму
и привычно отмахиваюсь от расспросов
о делах и здоровье,
я замечаю, что время гнёт её все ниже к земле,
и она не может уже распрямить
прежде крепкую спину.
Будто моя старая терпеливая мать и по сей день
удочкой натруженного позвоночника
силится изловить, покорить ту чудесную рыбу,
чтобы сын, её единственный мальчик,
наконец-то был счастлив…
Когда вина не пьём, так хочется скорбеть!
Судьба ворчит и плачется помпезно,
Всё ноет да пыхтит, –
Мол, будто надо ехать ей куда-то,
Ей чемоданы не успеть собрать,
Ей лучше было раньше умереть,
Чем так всю жизнь свою прожить
До самой пенсии с тобой, –
Таким дурным и бесполезным.
Ну и что? Пусть едет. Ведь не виновата,
Что по углам души как мелкие щенята
Скребутся мысли о потерянных годах,
Друзьях забытых, брошенных словах…
Когда вина не пьём, так хочется скорбеть!
И даже карты начинают плесневеть,
Да так упрямо, что и не всегда
Ты отличишь шестёрку от туза.
Я в жизни – жил. Не понял ни аза
Однако в ней. Да это ли беда?
…И ношеные вещи хороши, и старые ботинки,
Когда бы смысл имели вечеринки,
Когда бы женщины от нас не уставали…
Но мы, друзья, и выпьем, и споём,
И посмеёмся над бесхитростным бытьём.
А если завтра нам судьбы сурдинка
Вновь пропоёт: «Да ой ли?! Да едва ли»?!
То мы её ко всем чертям пошлём:
Ни нас судьба, ни мы её – не звали…
Твоим удачам – звонкий тамбурин,
Моим печалям – засорённый тамбур.
Как хочется, чтоб корень был один
У этих слов…
А знаешь, есть такая штука:
Бутылка Клейна: верх и дно –
Отсутствуют в ней, как ты ни крути.
Поверхность только. Никакой основы,
Как самоё себя родящая дорога.
Да я люблю тебя, хоть это и не просто…
Поверь: мне не почудилось, ей-богу,
Что неспроста всех лечащее слово
Со мной сотворчеством повязано навек.
Твоим удачам – громкий тамбурин,
Моим печалям – засорённый тамбур.
Всех слов не помню. Маленького роста
Ко мне пристал вчера угрюмый человек.
Я думал – он попросит денег,
А он, на подкосившихся коленях,
Сказал, что люди – это божьи дети,
Что я за всех за них воистину в ответе.
Ему поверил я. И с поезда сойду…
«Вчерашняя, ты снилась мне…»
Вчерашняя, ты снилась мне сегодня,
Сейчас я вспоминаю сна обрезки:
Как будто ты меняла занавески
На наших окнах с рамами вовнутрь.
А я выбрасывал кухонную утварь,
И верил я во сне, что это нужно,
Что я по-прежнему один тебе угоден,
Не помня, что давно уже наружу
Чужие я распахиваю окна. Все равно
Я должен ждать, надеяться и ждать.
Вчерашняя, ты снилась мне сегодня.
Ещё осталось в холодильнике вино.
Я распахну окно и буду спать.
Оттого ли мне кажется странной
Междометий проворная пыль,
Что мой пращур с напевом гортанным
Мял верблюжьим копытом ковыль?
А за что не люблю я глаголы,
Но союзы леплю почём зря?!
Не затем ли татаро-монголы
Не хотели иметь букваря?
Не поклонник я деепричастий,
Прилагательных пленник, да стой!
Что же мнилось вам днями ненастья,
Днями тяжких раздумий? Толстой!
Ломоносов, Тургенев, Есенин!
Гоголь, Лермонтов, Пушкин, Лесков!
Я смиренно стою на коленях
Пред великим своим языком.
Я люблю опьянение делом,
Вспоминая, как в детстве моём
Тётя Глаша, «бидонщица» в белом
Нас поила парным молоком.
Я люблю опьянение словом:
Но бидонщиц, лет тридцать, как нет
«О, великий»! Призваньем суровым
Мне завещан приятный обет:
Погремушкой из красок и звуков
Наиграюсь я, словом ведом,
Чтоб навек – не потешной заслугой –
Опьянеть мне родным языком!
Словно звонкая монета
В кулаке нагрелось лето.
Остальные тридцать шесть
Я истратил. Где? Бог весть.
Нынче та, что разлюбила
Вдруг глаза мои открыла
На бесцельное житьё.
Вот, три денежки её!
Не транжирил, не терял,
Просто так на память дал.
Что осталось – не считаю,
Бойко песенки слагаю,
Жду с фортуной рандеву,
Так тихонечко живу.
Помню, как ещё четыре
Подарил монетки Ире,
Оле, Тане, Ксюше, Свете –
Всем оставил по монете,
(Бывших жён не позабыть!) –
Тридцать девять, стало быть.
Пальцы тянутся к карману,
Я сейчас его достану –
Новый звонкий золотой –
Вот он, мой сороковой!
Что осталось – не считаю,
Бойко песенки слагаю,
В кулаке монетка ждёт,
Да никто уж не берёт…
Любил, любил! Любовь ещё быть может…
Но крышу мне сорвать уже не сможет.
Кузнечиком в руке жестокого ребёнка
зажат в горстях судьбы, а всюду рожи
надуты пафосом, и вот уже не слышит
Он – кто летать меня учил давным-давно…
Был свой секрет у той науки тонкой:
чтоб не разбиться, нужно научиться
промахиваться об землю – вот и всё.
Как вспомню – и сейчас смешно, –
когда уворовал я для любимой
охапку зайцев солнечных с небес.
Вот парадигма моего бытия,
где словно шейка балерины
ажурна хрупкая динамика чудес:
к обвисшей сиське матушки-Фортуны
прильнуть, а дальше – всё равно!
Цари роскошным знаком восклицания
посередине первобытной глины,
грозя нарушить девственность её
могучим фаллосом пророческого слова!
Итак, начнём всё сызнова, начнёмся сами снова:
из пункта А в пункт Б я выйду налегке,
не крепче ветра, не приблуднее души.
Не стану жаловаться, ныть, искать поблажек.
И что с того, коль бога рассмешит,
что в лужах, где ступал, останется вода святая?
Я тоже посмеюсь – мой день с ухмылкой ночи
накрошит вдоволь птахам строк бумажек:
пусть веселятся всласть на пикнике
его небес нехоженых обочин.
Голову вскинув гордо,
Под руку с модным в бородке,
Шла ты как с писаной торбой
Танцующей лёгкой походкой.
Каблук твой нанизывал листья,
Словно струна бемоли,
А я нехорошие мысли
Вдогонку вам слал обоим.
Лишь глаз золотые рыбки
Хвостами меня мазнули,
Мгновенная тень улыбки,
Что ранит похлеще пули.
Я свору породистых строчек
Гонял по бумажному полю,
Да это лекарство не очень
Лечит душевные боли.
Глотал без разбора горстью
Стихи, запивая водою,
И в каждой случайной гостье
Сходства искал с тобою.
И снова как встарь обнимаю
Твои перелётные плечи…
И только потом понимаю:
Время – тоже не лечит.
Очнувшись, глаза открываю,
Застыв на печальном жесте, –
Я спинку кресла сжимаю…
Ночь. Я один. И кресло.
В небе кнопками сверкает
Млечный путь – что твой баян!
Кто мехи его расправит?
Может, строгий Иоганн, –
Сам маэстро точной фуги?
Или Вольфганг Амадей,
Что держал взамен прислуги
Вечно музу у дверей.
Ну, а может, Ванька-Каин,
Балагур и баянист,
Трезв умом, душой отчаян,
Хоть и на руку нечист!
Он такую врежет польку, –
Демиурги в пляс пойдут,
Славя Господа, поскольку
Так предписывает Талмуд.
Режь, Ванюша, жги, как можно, –
Сил не жаль на благодать!
Жги, да только осторожней,
Чтоб гармошку не порвать…
Вокруг скамейки с видом на Неву,
где я пришёл к мысли, что Литейный мост
напоминает стёртую подошву
ботфорта Петра,
такого же плоскостопого,
как и основанная им северная столица,
вальяжно и чинно гуляют вороны, похожие на
раввинов.
Изредка бросая на меня плутоватые взгляды,
они словно спрашивают:
«Ну что? Что вы на это скажете?!»
Что я скажу? Извольте, скажу.
Я скажу, что, по-моему,
за пять тысяч семьсот семьдесят лет
со дня сотворения мира ничего не изменилось.
Не изменилось в том смысле,
что всё по-прежнему хорошо весьма.
Правда, с незначительными перегибами на местах,
вроде той возведённой в подвиг
исторической несправедливости,
когда пожилой мастер художественного свиста
был упокоен палицей
страдающего мигренями муромского культуриста.
Но это зависит от точки зрения,
с которой взираешь на мир…
Как если бы Литейный мост,
глядя на меня, мог подумать,
что создания бессмысленней и нелепее он не
встречал.
Так и об истине, – можно сказать, что она –
не фунт изюму.
А можно то же самое, только другими словами.
Например: истина – это всего лишь фунт изюму.
Разницы нет, потому что от милых сердцу вещей
и имён
все равно остаётся лишь пыль,
так есть ли смысл заботиться о том,
что никто не умрёт для себя самого?
Но! К чёрту философию! Учтите, что любая
красивая и строгая система не устоит
на нашем зыбком льду самосознанья.
Пойдёт ко дну, как тот тевтонский рыцарь…
Другое важно: словно канифолью
мы жалостью к себе натёрты так усердно,
что любой смычок из королевского оркестра
в сравненье не идёт!
И это тоже хорошо весьма, поскольку не даёт
возможности проснуться.
Как, впрочем, и уснуть.
Ах, жизнь моя, облысевшая от плохой экологии
леди Годива!
Всё же, шельма, ты многого стоишь, –
взять даже это непостижимое притяжение,
когда не земля удерживает тебя, а ты сам уже
держишь землю…