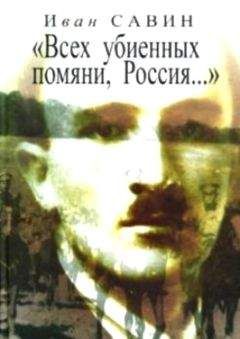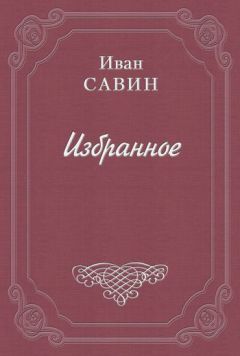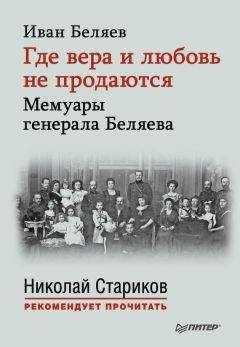Картину эту я видел только один раз. Давным-давно, в детстве. Но мнится мне, будто вчера лишь вглядывался в ее потрясающую, в ее прекрасную правду. И кажется понятным, почему один из посетителей репинской выставки, внезапно сойдя с ума, прорезал ножом полотно этой картины. Ужас смерти, переданной с такой гнетущей силой, вызвал в больной душе мысль: нельзя убивать! И сверкнул нео..[нрзб.] нож (к счастью, не задевший глаза царевича).
Вы помните «Запорожцев» Репина? Помните маленького, тщедушного писаря, лукаво выводящего под диктовку хохочущей Сечи Запорожской витиеватые закорючки — письмо султану турецкому? Помните полуголые тела казаков, оселедцы на головах, лихо сдвинутые шапки, лица, залитые вином, удалью, буйством? Всю эту радугу солнца, смеха и той неподражаемо точно схваченной старины, что понятнее десятков исторических трудов и северянину, и выросшему в южных степях, в ковыльной глуши моей Украины…
«Правительница Софья». Сколько власти, силы и жестокой самоуверенности в этом почти мужском лице. Когда вспоминаешь резкие черты этого лица, огонь волевых глаз царевны, высокую ее фигуру у решетчатого окна, невольно думаешь: да, это настоящее. Да, это царица. Да, такая могла победить еще не окрепшего Петра!
В каждой картине Репина огромный талант художника выдвинул вперед, заострил до совершенства одну идею, один луч зрительного и духовного эффекта. И он бьет, врезывается в память.
Сейчас — за моим окном синеватые, вросшие в мостовую жилы трамвайных рельс, глыба камня в снегу, струйка дыма над белой крышей. А я в тающих кольцах дыма вижу репинских «Бурлаков». И в них — свой, прорезывающий меня луч. То, что так ярко сквозит в известной песне: «Эй, ухнем! Еще раз эй-эй ухнем…»
В «Бурлаках» — безысходность труда, последняя примиренность с полукаторжным бытием и бытом. Будто навеки связаны просмоленным канатом эти уныло бредущие люди с тяжелой баржей. Оттого и веет такой бесконечной грустью и безнадежностью от «Бурлаков», от этой песни:
А наш русский мужик,
Коль работать невмочь,
Так затянет родную «дубину»…
Помню ясно и «Бурлакам» противоположное — «Какой простор!». Студент, девушка, водопад. Пламенные, молодостью кипящие лица — и то же кипение, и, кажется, та же молодость в пене водопада, в веерах брызг. Налетит шквал, с грохотом опрокинется волна — так же крепко будут сжиматься руки, сиять глаза, бешено мчаться водопад.
Пусть обманули нас «медовые годы России» — 1905, 1906 — годы, обманчивой сладости которых и был посвящен «Какой простор!». Мед оказался ядом. Русская весна слишком явно связана с русской осенью и нерусским октябре. — с убийством, подлостью, заревом пожаров и кровью. Пусть мост слишком очевидный перебросила история между 1905 годом, нашей весной, и 1917-м — гибелью нашей, гибелью всех — и славословивших эту весну, и ее проклинавших.
Но ведь была же, была гордая, восторженная, холодная вера в лучшее. Слепая, может быть, слишком высокая, — но была.
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман…
И обман многим казался чуть ли не Богом. И пели многие ему: «Осанна!» И теперь, когда он пришел и колесовал всю душу нашу, с какой невыразимой болью вспоминаешь «Какой простор!» — прекрасное творение прекрасного художника, запечатлевшего на полотне былую, еще не распятую душу нашу, молодость нашу солгавшую…
Каждый след кисти Репина — незаживающий удар. Каждую картину его носишь в себе, как ладанку с родной, далекой землей. «Навязчивый» гений этого художника характерен не только неизмеримым диапазоном его творчества, мощью его кисти в любой отрасли живописи — в портрете, жанре, пейзаже. Но и тем, с каким благоговением, с какой страстностью служил и служит Репин своему делу — и в годы давние, и в годы нынешние.
Если художник в молодости, по его словам, «вставал с зарей и мчался в академию, часами ожидая на морозе, пока откроются двери и можно будет занять лучшее место», то та же «ревность во искусстве» не оставила его и теперь, на склоне лет.
«Как старый пьяница, — писал мне на днях Илья Ефимович, — я уже от маленькой рюмочки труда пьян — своими работами…»
Как и в молодости, Репин, по его замечанию, «на все, безрассудный, дерзает». Дерзание духа, подкрепленное мощью таланта, — вот Репин. В условиях работы, далеко отходящих от нормальных, в годы явно ненормальные пьянеть от труда, гореть молодым огнем, продолжать, несмотря на старческий возраст, напряженно творить — вот Репин. В родных русскому и мировому искусству Пенатах по-прежнему пылает костер, искры свои разносящий по всей земле. По-прежнему крепка рука, держащая знамя русской живописи. По-прежнему зовет молодежь к труду и горению великий художник земли русской.
Ave, Repin, junior te salutat![50]
(Новые русские вести. 1925. 9 декабря. № 591)
В Москве — цветная накипь веков, пестрые слои эпох, царств и народов. Как огромный ком снега, катился этот удивительный город по полю русской истории, впитывая в себя соки встречных культур, обрастая пластами непримиримых, казалось бы, влияний единоличной юли и воли народной, действа русского и иноземного. Москва — соборный город Руси, многогранный слепок ее прошлого, составленный из разноцветной мозаики. Кто скажет, где кончается в этом радужном наследстве седой скиф и начинается бережно принесенный отсвет Византии, где грань между сынами Боголюбского, бедными удельными князьями и пышным двором Василия III, первого «царя всея Руси», как отделить суровый окрик Ивана Грозного от ласкового говора царя Тишайшего, Алексея Михайловича? Красочными памятками земель ростово-суздальских, новгородских, галицких, псковских и киевских, памятками междоусобицы, Золотой Орды, Смутного времени, стрелецких бунтов, памятками Владимира Мономаха и собирателя русского, Ивана Калиты, увешана эта колыбель, имя которой — Москва.
Петербург — монолит. На рубеже XVIII века высек его из цельного камня Великий Петр. Палящим веером рассыпались гранитные искры от царского топора по разбуженной, втайне ропщущей Москве, залетели в хоромы боярские, в терема расписные, в приказы, вотчины, кельи монастырские. Сквозь «окно в Европу» вполз в душные палаты «немецкий» дух. Шаг за шагом внедрялись в сонную Русь «греховная» наука и искусство, заплясали в ассамблеях боярышни, с плачем сбрили бороды думные дьяки и подьячие, завелись «бесовские» лекари, печатники, строители, бодро заплескал флот в Неве-реке. А там, у «окна», на ожившем граните стоял с дубинкою в руке неистовый гений — Петр.
Петербург — подарок России от ее первого императора. Он слитен, целостен, неразделим; он создание одной воли, одной эпохи русской истории. Лучшая гордость нашего прошлого, Великий царь сказал: «Здесь будет город заложен…» — и встал город, легендарнее второго нет. Наперекор стихии выросли казенные громады на топи болот, в глуши убогого севера. Властной рукой Петра, только его одного, воздвигнута эта Северная Пальмира на берегах Невы. И потому именем творца освящена столица разбуженной Московии и каждый камень qe носит печать Петра…
И если теперь эта печать кощунственно срывается, если там, в царстве мрази и плесени, имя создателя России заменили именем ее вешателя, если к Петербургу прибит подлый ярлык «Лен……. Хотя не надо об этом говорить. Больно.
Было ли это на самом деле или только мнится мне, что в тот день, когда получил Петербург, изумительный, неповторимый Петербург, пощечину от нового Гришки Отрепьева, — ушли из города святого Петра в леса саровские, муромские, в тайгу, на Волгу, в степи каспийские все, кто оскорблен, кто унижен, кто и в могиле услышал свист хамского хлыста, занесенного над лицом мертвого императора.
Сутулясь и крепко сжимая маленькой рукой широкие скулы, ушел лучший сын Петра — камер-юнкер Александр Сергеевич Пушкин, горьким смехом прозвучал по улицам оплеванной столицы уходящий на Полтавщину Гоголь; в рваной шинели пробежал — то ли в Сибирь, то ли в приазовскую пустынь — неистовый Виссарион; Достоевский, гениальный провидец русского бунта, грозя костлявым пальцем дурацкой надписи на памятнике Александру III, ушел в Старую Руссу. Смутная вереница детей Петровых в шитых золотом камзолах и в залатанных пиджаках, в шинелях с бобрами и в трепаных пальтишках, в треуголках, цилиндрах, шляпах стиля болеро и в изъеденных молью шапках, — смутная вереница детей Петровых в тот черный день ушла из оскорбленного города, неся в странно оживших руках гроб того, кто сказал когда-то: «А о Петре не думайте, была бы жива Россия…»
Россия умерла, и встали мертвые, чтобы из рук осатанелых живых вырвать тело бессмертного императора и унести его от мрази людской и спрятать до срока в дикой тайге.