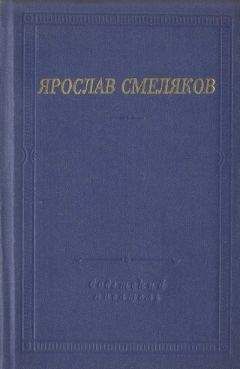МАЯКОВСКИЙ
Из поэтовой мастерской,
не теряясь в толпе московской,
шел по улице по Тверской
с толстой палкою Маяковский.
Говорлива и широка,
ровно плещет волна народа
за бортом его пиджака,
словно за бортом парохода.
Высока его высота,
глаз рассерженный смотрит косо,
и зажата в скульптуре рта
грубо смятая папироса.
Всей столице издалека
очень памятна эта лепка:
чисто выбритая щека,
всероссийская эта кепка.
Счастлив я, что его застал
и, стихи заучив до корки,
на его вечерах стоял,
шею вытянув, на галерке.
Площадь зимняя вся в огнях,
дверь подъезда берется с бою,
и милиция на конях
над покачивающейся толпою.
меня ни копейки нет,
я забыл о монетном звоне,
но рублевый зажат билет —
всё богатство мое — в ладони.
Счастлив я, что сквозь зимний дым
после вечера от Музея
в отдалении шел за ним,
не по-детски благоговея.
Как ты нужен стране сейчас,
клубу, площади и газетам,
революции трубный бас,
голос истинного поэта!
1953–1956
336. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
(Комсомольская поэма)
Посвящается 50-летию ВЛКСМ
С тогдашним временем взаимен,
разя бумагу наповал,
я в общежитии, как Пимен,
твою Историю писал.
И эти смятые скрижали,
сказанья тех ушедших дней,
пока до времени лежали
в спецовке старенькой моей.
И вот сейчас, в начале мая,
не позабыв свою любовь,
я их оттуда вынимаю
и перелистываю вновь.
Я и тогда в каморке душной,
перо сжимая тяжело,
писал никак не равнодушно
своей страны добро и зло.
И сам на утреннем помосте,
с руки не вытерев чернил,
под гул гудков, с веселой злостью
добротно стены становил.
Я юность прожил в комсомоле
средь непреклонной прямоты.
Мы всюду шли по доброй воле,
но без особой доброты.
Мы жили все, как было надо,
как ждали русские края.
…Стол освещая до надсады,
не так смиренно, как лампада,
горела лампочка моя.
Пускай теперь страницы эти
и — если выйдет — новый срок
мерцаньем трепетным осветит
тот отдаленный огонек.
Средь почты медленной и малой,
когда дороги замело,
однажды книжица попала
к нам в белорусское село.
Там на обложечке весенней,
лицом прекрасен и влюблен,
поэт страны Сергей Есенин
был бережно изображен.
Лишь я один во всей округе,
уйдя от мира, тих и мал,
под зимний свист последней вьюги
ее пред печкою читал.
Поленья, красные вначале,
нагревши пламенем жилье,
чудесным блеском освещали
страницы белые ее.
Я сам тогда, кусая руку
и глядя с ужасом назад,
визжал, как та визжала сука,
когда несли ее щенят.
Я сам, оставив эти долы,
как отоснившиеся сны,
задрав штаны, за комсомолом
бежал по улицам страны.
И, озираясь удивленно,
всё слушал, как в неранний час
дышали рыхлые драчены,
ходил в корчаге хлебный квас.
В начале самом жизни ранней,
в краю зеленом, голубом,
я жил как раз в самой Рязани,
губернском городе большом.
Тогда мне было лет пятнадцать,
но я о многом понимал.
Мне до сих пор те стогны снятся,
хоть я как будто старым стал.
Непритязательно одетый,
я жил тобой без суеты,
о «Деревенская газета»,
юдоль крестьянской бедноты!
Мне жизнь была такая впору.
В закутке, бедном и сыром,
заметки страшные селькоров
я обрабатывал пером.
В дни социальных потрясений,
листая книгу и журнал,
я позабыл тебя, Есенин,
и на Демьяна променял.
Мы блеска тут не наводили,
нам было всем не до красот.
В село отряды уходили
без барабанов в этот год.
Под солнцем, смутным и невнятным,
они из схваток боевых
везли на розвальнях обратно
тела товарищей своих.
Платя за всё предельной мерой,
упрятав боль в больших глазах,
мы хоронили их на скверах
и на недвижных площадях.
Я помню марево печали,
и черный снег, и скорбный гул.
Шли митинги в промерзшем зале,
молчал почетный караул.
Неподалеку, у заставы,
как переменная судьба,
в заезжем цирке для забавы
идет вечерняя борьба.
Как в освещенной круглой сказке,
там, под галеркой, далеко
потеют мускулы и маски,
трещит последнее трико.
Борцов гастрольные повадки
все в электрической жаре.
Лежат могучие лопатки
на старой Персии ковре.
Сдавай свой номер, словно бирку,
бери потертое пальто.
Уже брезент сдирают с цирка,
поедет дальше «шапито».
А в поле снежном, за заставой,
стучит ружейная пальба,
блестит клинок в ладони правой,
иная действует борьба.
С врагов сорвав победно маски,
на кобылицах без подков
из карабинчиков подпаски
в кулацких целятся сынков.
Бранясь и сплевывая смачно,
не замечаючи мороз,
идет кровавый бой кулачный,
не для потехи, а всерьез.
Уже рассвет, а битва длится,
стук мерзлых сабель не затих.
Ржут и стенают кобылицы,
жалея всадников своих.
И по дороге той России,
через притихший снеговей
устало едут верховые,
гоня кулацких сыновей.
Побыв в сумятице московской
среди звонков и телеграмм,
отправлен быстро был Чухновский
по весям и по городам.
По Совнаркома директивам,
чуть огорошен и устал,
он выступал перед активом
и к пионерам приезжал.
Прошли года чредою длинной,
но и сейчас передо мной
на всю Рязань — одна машина,
и в ней Чухновский молодой.
Она победно громыхала,
и, слыша срочный рокот тот,
Рязань, откинув одеяла,
к своим окошкам припадала
и выбегала из ворот.
Чухновский молод и прекрасен,
хоть невелик совсем на вид.
Но где-то там, как символ, «Красин»
за ним у полюса стоит.
И перед сценой в главном зале,
как бронепоезд на парах,
мы вместе с ним опять спасали
тебя, «Италия», во льдах.
Ведь меж торосов и обвалов,
в тисках ледовых батарей
он заложил тогда начало
всех наших общих эпопей.
Так эта сдержанная сила
свою нам протянула длань
и к громкой славе приобщила
тогда губернскую Рязань.
Москва сзывала в этот год
в свои училища и вузы
один трудящийся народ —
хозяев истинных Союза.
Забрав паек без праздных слов
и вынув литер на вокзале,
на третьих полках поездов
они к столице подъезжали.
Потом в азарте юных лет,
не сняв косынки и шинели,
теснились возле стенгазет,
в аудиториях шумели.
По всем углам родной земли
и после — по державам мира
они отсюдова пошли,
плотин и домен командиры.
…И мне учиться срок настал:
оставив гранки и селькоров,
я в типографию попал
по фезеушному набору.
Москва тогда еще жила
и прежним днем, и в новом стиле:
среди гудков — колокола
себе отходную звонили.
Последний нэпман продувной
шагал в домзак угрюмым рейсом,
и по булыжной мостовой
ломовики возили рельсы.
Храня республику труда,
глядели влево и направо
заставы города тогда,
как бы военные заставы.
…Я очень помню тот апрель,
тот свет и тьму, тот день московский,
когда не в ту, ошибшись, цель
отправил пулю Маяковский.
Тут не изменишь ничего,
не скажешь что-нибудь особо.
Я видел и живым его,
и шел замедленно вдоль гроба.
Снимайте шапки перед ним,
не веря всем расхожим толкам.
Он был глашатаем твоим,
наш комсомол и «Комсомолка».
Я жизнь узнал на вкус и вес
и вспомню, чтоб не упрекали,
тот самый шахтинский процесс,
что шел тогда в Колонном зале.
Истории — не прекословь,
не правь исчезнувшие даты…
Об этом «Строгая любовь»
была написана когда-то.
Года уходят, как века,
необратимо и пространно,
как шли в то время облака
над Мавзолеем деревянным.