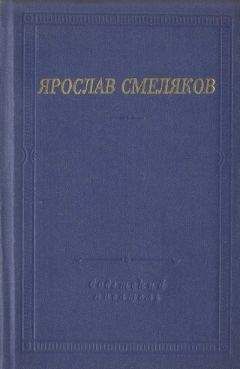АСФАЛЬТИТОВЫЙ РУДНИК
Как заштатный сотрудник,
купаясь в таежной реке,
асфальтитовый рудник
стоит от столиц вдалеке.
Ходят в петлях ворота,
натужно скрипит ворото́к,
днем и ночью работа,
трехсменный нелегкий урок.
Под звездою туманной,
как словно свое торжество,
я кручу непрестанно
железную ручку его.
Летним утром и в стужу,
затратив немало труда,
эту землю наружу
в бадье мы таскали тогда.
Нам велела эпоха,
чтоб слабою рохлей не стать,
как по пропуску, в грохот
лопатой ее пропускать.
На обгон, на подначку
под солнцем твоих небеси
мне толкать эту тачку
способней, чем ехать в такси.
Жить в тайге интересно,
и всем холуям на беду
я в разведку отвесно
под черную землю иду.
Не лирический томик,
не фетовский ваш соловей —
гнется слабенький ломик
под страшной кувалдой моей.
Я прошел бы, пожалуй,
вселенную эту насквозь,
если б мне не мешала
земная проклятая ось.
Красиво мускулы ходили,
пила визжала, как экспресс,
когда с тобою мы пилили
на доски весь сосновый лес.
На этой спорой лесопилке,
скорее двигаться веля,
бесшумно сыпались опилки,
росли, как избы, штабеля.
И день и ночь, опять и снова.
Сегодня то же, что вчера.
И пахнут свежестью сосновой
мои ладони до утра.
И снова, словно бы в сказанье,
я вижу, выправив билет,
Дом Красной Армии в Рязани
второй зимы тридцатых лет.
Его чугунная ограда
снежком прикрыта голубым.
Народ идет сюда, как надо,
привычным шагом строевым.
На этот праздник небогатый,
прикинув так и так сперва,
своих прислала делегатов
литературная Москва.
Себя талантами считая,—
ведь есть у каждого грехи, —
мы нашей армии читаем
свои поэмы и стихи.
Нет, мы совсем не монументы,
мы не срываемся едва,
от грохота аплодисментов
у нас кружится голова.
Как всадник истинный, вразвалку,
в военной форме прежних дней
пошел к трибуне Матэ Залка,
остановился рядом с ней.
Он говорит, расставив бурки,
и не совсем без юморка,
как на привале у печурки
иль за столом у земляка.
Еще в буфете, сверх программы,
вдаль устремив влюбленный взгляд,
пьют пиво взводные, их дамы
свое пирожное едят.
Еще до поезда немало,
еще далеко до Кремля,
и мы выходим неустало
под снег и звезды февраля.
А сбоку, словно в зимней сказке,
движеньем обольщая всех,
летят за санками салазки
вдоль по оврагу — прямо в снег.
Не долго думая, туда-то,
враз потеряв достойный вид,
возглавив нас, прекрасный Матэ,
пыхтя от радости, бежит.
Не щелкопер салонов дамских —
на санках вместе с мелюзгой
скользит герой войны гражданской,
участник первой мировой.
За ним по пропасти вдогонку,
как в глубь твою, ночная Русь,
с шальною школьною девчонкой
я в упоении несусь.
Ее метельные косицы,
всем наставленьям вопреки,
в роскошных ленточках из ситца
моей касаются щеки.
…Я ночью зажигаю спички,
в свое окно гляжу зимой,
и снова снежные косички
опять летят передо мной.
От гаубиц трясется балка,
блестят охранные штыки.
Сидят Кольцов и Матэ Залка
и шумно жарят шашлыки.
Как будто бы им дела мало
там, на своей большой земле.
Лежит фуражка генерала
на приготовленном столе.
От них еще покамест скрыто,
что впереди испанцев ждет
паденье грозного Мадрида
и в лагерь Франции исход.
Они еще не знают оба,
что ожидают их двоих
салют Испании над гробом,
воспоминания о них.
Мешать их празднику не надо,
пусть будет эта ночь светла.
Теки в стакан, вино Гренады,
благоухайте, вертела!
Мне и завидно им, и жалко:
живут же, хоть свершился срок,
улыбка радостная Залки,
Кольцова мрачный хохоток.
Я рад тому, что в жизни старой,
средь легендарной суеты
сам знал Аркадия Гайдара,—
мы даже были с ним на «ты».
В то время он, уже вне армий,
блюдя призвание свое,
как бы в отсеке иль казарме
имел спартанское жилье.
Быть может, я скажу напрасно,
но мне приятен признак тот:
как часовой, он жил у Красных,
а не каких-нибудь ворот.
Не из хвальбы, а в самом деле
ходил товарищ старший мой
в кавалерийской всё шинели
и в гимнастерке фронтовой.
Он жил без важности и страха,
верша немалые дела.
Как вся земля, его папаха
была огромна и кругла.
Когда пошли на нас фашисты,
он был — отважен и силен, —
из войск уволенный по чистой,
по той же чистой возвращен.
И если рота отступала
и час последний наступал,
ее он всю не одеялом,
а пулеметом прикрывал.
Так на полях страны Советской,
свершив последний подвиг свой,
он и погиб, писатель детский
с красноармейскою душой.
В городах неприметна природа,
в фонарях не рассмотришь звезду.
В майский дождь сорок первого года
я по улице поздней иду.
И в окне, как сквозь смутные дали,
различая всё сразу едва ль,
в школьном зале, в предутреннем зале,
вижу я приглушенный рояль.
Под померкшею лампой недальней —
там когда-то и я бушевал —
и веселый, и всё же печальный
выпускной завершается бал.
Я стою под окном запотелым,
вдоль него неумело хожу,
словно бы в потаенное дело,
на ушедшую юность гляжу.
Парень девушку кружит в объятьях
в первый раз на недолгом веку,
пролетает прощальное платье,
прикасаясь к его пиджаку.
И не знает она, хорошея,
то, что ей суждены впереди
воровская веревка на шее,
золотая звезда на груди.
Давайте вспомним о Смоленске.
Он в списке городов других —
как тихий житель деревенский —
среди рабочих разбитных.
Тебя я, пусть немного, знаю,
гляжусь в тебя издалека,
столица русская льняная,
юдоль лопаты и штыка.
Там, где шумят леса глухие,
полей и перелесков тишь,
валы насыпав земляные,
ты пол-России сторожишь.
Его холмы стоят, как надо,
всю ночь горят его огни.
Пускай тут вовсе нету кладов,
а только кладбища одни.
Он славных подвигов предтеча,
ему история мила.
Когда идет поодаль сеча,
его гудят колокола.
Он неторопко дело знает,
без похвальбы и без хулы.
И перья медные роняют
над ним залетные орлы.
Я приятности нахожу
в том, что, словно бы голубица,
с легким шелестом прохожу
через таможни и границы.
Ведь во время войны не так, —
без улыбочек, без идиллий,
развивая огонь атак,
в эти местности мы входили.
Знают Со́фия и Белград,
помнят люди немолодые,
где под камнем могильным спят
комсомольцы самой России.
На войну уходя сперва,
не успели они жениться;
их единственная вдова —
наша северная столица.
Гул тогдашней войны затих,
но она всё, как подобает,
обручальных колец своих
с пальцев каменных не снимает.