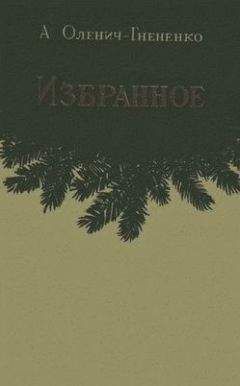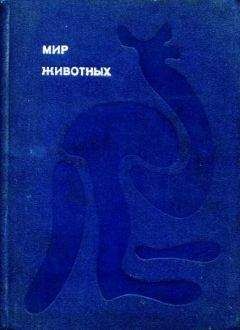Из Медины Гюльгюн
(с азербайджанского) Аракс
«Постой, Аракс, родной Аракс,
Поговорим с тобой, Аракс!»
Когда через тебя я шла
И воду чистую пила,
Такую речь с тобой вела:
«Постой, Аракс, родной Аракс!
Поговорим с тобой, Аракс!
Послушай, милая река!
На сердце у меня тоска,
Как ты бурна и глубока,
Постой, Аракс, родной Аракс!
Поговорим с тобой, Аракс!
Ты разлучи меня с бедой
И слезы смой своей водой.
Не торопись, побудь со мной.
Постой, Аракс, родной Аракс!
Поговорим с тобой, Аракс!
Останови ты бег свой с гор,
Мне сердце утоли и взор,
Чтоб час свидания был скор.
Постой, Аракс, родной Аракс!
Поговорим с тобой, Аракс!
Не убегай! Ответь ты мне:
Мать не на той ли стороне,
Где вся земля горит в огне?
Постой, Аракс, родной Аракс!
Поговорим с тобой, Аракс!
Будь другу — друг и враг — врагу:
Умерь мне смертную тоску,
Терпеть я больше не могу!
Постой, Аракс, родной Аракс!
Поговорим с тобой, Аракс!
На берегу крутом твоем
Молю и вечером и днем:
Верни, верни мой отчий дом!
Постой, Аракс, родной Аракс!
Поговорим с тобой, Аракс!
Гляжу часами в пену вод:
То кровь кипит и в сердце бьет!
Дай мне увидеть мой народ!
Постой, Аракс, родной Аракс!
Поговорим с тобой, Аракс!»
Медина Гюльгюн — прогрессивная поэтесса Южного Азербайджана, участница национально-освободительной борьбы против иранских реакционеров.
(с английского) Три золотых гиганта
ПоэмаК моей реке пришел я, чтобы принять решенье:
За океаном[38] ли осесть, подобно пыли,
И австралийское искусство там растратить,
В далекой стороне, среди людей мне чуждых,
Или погибнуть здесь, оставив все надежды
Когда-нибудь одеть и сталью и бетоном
Мечты, что выносил строитель-австралиец?
Я знал: плотина эта победит пустыню.
Но, лавой огненной пролившись над рекою,
Не воду испарило лето — наши деньги.
Полузаконченная замерла плотина,
И не окрепшего еще младенца кости
Скалой обрушась, раздробила безнадежность.
Сквозь горсти сжатые текли речные воды,
Бесцельно крася след в волнах соленых моря,
Кровавый, словно жизнь страны, где я родился
Или ее земля, истерзанная тяжко, —
Сквозь горсти сжатые, что сомкнуты, как чаши,
Но все ж не могут крови удержать, бегущей
Из раны на груди заброшенной плотины,
Рассеченной людьми без жалости и сердца.
Вдруг мне почудилось: хотят меня увидеть
Те, кто трудились тут и с тачкой, и с лопатой,
Что будто бы у них есть план спасти плотину,
Одеть пустыню в зелень…
Нет, это голоса из прошлого звучат мне
Всех предков, перед кем истории бесстрастной
Сменялась череда приливов и отливов.
Три золотых гиганта изменили Запад:
«И один был золотом, мальчик,
Первый золотом был, сынок,
И тем золотом, что я добыл,
Я город бы вымостить мог».
Я оглянулся и вижу:
Рядом — отец отца.
Как будто из дерева руки
И темный овал лица.
«Мы были в то время юны.
Сияла нам жизнь светло,
И золото в наших жилах
Горячей струей текло.
Звенели и днем и ночью
Наши кирки в горах.
Наш след прорезал равнины
И был нам неведом страх.
Как кровь, золотые брызги
В песках нас вели к нему,
К золоту, скрытому в недрах,
К гиганту — в его тюрьму.
Обрушивались на крышу
Удары со всех сторон.
Из черного мрака к солнцу
Протягивал руки он.
Тут Байлей разбил затворы
И Хеннан с ним сверху вниз
Глядел, смеясь, на гиганта,
К которому мы добрались.
Так было, когда вставал он
Из душной и вечной тьмы,
Когда Золотую милю
Освобождали мы.
„Вы путь мне железный дайте,
Постройте у моря порт!“ —
И рельсы горят на солнце
До моря от этих гор.
„Ведите от берега воду:
Я всю ее выпить готов!“ —
Голос гиганта грохочет
С вершин Маританских холмов.
Так стал изменять он Запад
С вершин Маританских холмов.
Но снова мощь его живых богатств
Капиталистов кучкой пленена,
Течет, минуя горы нищеты,
Разрозненными реками она.
Те, кто гиганта сделали рабом,
Орудием безжалостных страстей,
Высасывая золотую кровь,
Становятся все злее и жадней.
Рукой могучей валит он леса,
И в пыль и в прах вокруг он землю рвет
И, ржавчиной заполнив вены нам,
Зубами кварца нашу грудь грызет.
Где он укажет — ходят поезда,
Где след его — там жизни нет совсем,
И, выплюнувши легкие свои,
Сложил я кости перед богом тем»…
Когда же вновь к нему мой взгляд оборотился,
Я только камедное дерево увидел.
Как ноги мощные, врастали в землю корни.
Оно стояло здесь подобьем человека,
Слегка назад откинув ствол свой исполинский.
И лился солнца свет сквозь сеть ветвей и лист
И ветер бормотал в его широкой кроне.
Пусть золотой гигант на мой вопрос ответит:
Зачем, по умыслу богатых тунеядцев,
Он обездоленных своей пятою давит,
А там, где он прошел, лежат пески пустыни
И раны глубоки, где почвы он коснулся?
Не может возродить он для цветущей жизни
Деревьев и земли, растоптанных в пути им,
Не может Ка́лгурли обнять рукой зеленой.
Хочу призвать сюда я двух других гигантов,
Узнать, не могут ли разрушенное ими
Восстановить они во всем былом величье?
Пастух, чуть не задев меня,
Сдержал под деревом коня:
«Овец я первым гнал здесь вброд.
Да, лет с полсотни пронеслось!..
На Запад без конца тогда
Шли златорунные стада
От Кенденапа к Кимберли,
И золотой гигант все рос.
Когда я ехал с Грегори,
За мною море — посмотри! —
И горы впереди,
Стада голодные за мной,
Передо мной хребет крутой
На трудном встал пути.
Что шаг, то все чахлей трава,
Обрита солнцем голова
Далеких горных круч.
В долинах жизни тоже нет,
Ручьев и луж исчез и след —
Их выпил жадный луч.
Но не забыть нам детских глаз,
Слезами полных в страшный час
Морозных вьюг зимы:
Ведь шерсти ждет веретено,
И золотое то руно
Должны дать людям мы!
Так мы на горы лезли там,
Мостом служило небо нам.
Хребет, еще хребет…
Меж солнцем сжаты и скалой,
Мы выносили смертный зной,
И отстающих нет.
Но вот живой воды поток
Целует нам подошвы ног.
Трава зовет: „Вперед!
Не отступай — смерть за спиной!“
И револьверного игрой
Закончен был поход.
И, дымку утра разорвав,
Заколыхались мили трав
Между прохладных рек,
А с гор, как полая вода,
За нами хлынули стада,
И золотой гигант тогда
Открыл нам новый век.
И нежились холмы, ласкаемые солнцем,
И овцы сытые и лошади тонули
В зеленой и густой траве, с волнами схожей,
И в портах кипы золота росли горами.
О, был ли на земле когда гигант столь щедрый,
Как тот, что двигался вперед за мной и Грегори?
О, был ли на земле когда гигант столь сильный,
Пути которого тянулись бы как жилы,
Весь спящий Запад вплоть до моря оплетал,
Который добывал бы из земли так много
И золотым руном одел бы плечи мира?»
— Но отчего ж в лохмотьях ты, —
Спросил его тут я, —
И горечь бед и нищеты
Глаза твои таят?
«Уж слишком много ртов траву в степях съедало
И слишком много там копыт овечьих
Топтало бурую и высохшую почву:
И вот до моря самого легла пустыня.
Взор ослепляли призрачные горы денег
Богатым скваттерам[39] — не видели они
Ни тощих мериносов, ни людей голодных
И радовались засухе они зловещей,
Как во́роны в степи, летящие на падаль.
И если бы от Вундхема я к Ливину проехал,
То и сейчас, будь это хоть весной цветущей,
Я в мертвых руслах рек увидел бы не влагу,
А тысячи овец, лежащих друг на друге,
Как будто бы из них построена запруда,
Чтоб воду удержать и навсегда покончить
С обманами степных губительных миражей.
Вода, что прочь ушла и что должна вернуться,
Не может одолеть пустынных ветров смерти,
Коль мы плотину нашу бросим, не достроив,
В живую зелень не оденем наше завтра».
Но только я хотел на речь его ответить,
Как он уже исчез, с вечерней слившись тенью.
То слезы или пыль в моих глазах?
Пыль золотым руном горит в лучах заката,
И вечер задрожал покинутым ягненком.
Иссохнув ли, умрут мои мечты,
И Запада артерии в песках иссякнут?
Нет! Замыслы мои упрямы, будто семя,
Что зной и засуху пустыни одолело,
Как воля пастухов и рудокопов смелых,
Что тысячи костров бивачных год из года
Вдоль следа своего упорно зажигают.
Но золото руна — гигант могучий этот,
Вперед гонимый властью жадных овцеводов,
Слепой корыстью их, ничем не утолимой,
Грозит надеждам всем о будущем счастливом
И мириадом ног их втаптывает в землю.
Не третий ли гигант в сад превратит пустыню
И в стенах зелени укроет дом родной мой?
И в листьях, падающих с веток, я читаю
Его судьбу;
В шуршании песка, текущего лениво,
Я голос слышу,—
То голос моего отца из дальней дали
Доносится ко мне чрез скалы и потоки:
«Зерно! Где мой топор звенел в извечной чаще,
Услышал я впервые слабый лепет твой.
Меня он взволновал, как изгороди запах,
Который в сентябре мы утром пьем с росой.
Был золотой гигант еще незрелым, юным,
Но вот уж от ручья до горизонта встал.
Смеющийся земли зазолотились кудри,
И гребнем золотым их ветер расчесал.
И были мы горды, что созревает жатва,
Что щедрый хлеб растим, чтоб сыт был человек,
И радовался я, с крыльца на поле глядя,
Что веком золотым пшеницы станет век.
Дожди весны, жар лета утучнили жатву,
Шагал-вперед гигант мильонами стеблей,
Волнуясь на ветру, сходясь и разбегаясь,
Потоком золота залив простор полей.
Он по дорогам лился, лился в наши жилы,
В сердца входил он к нам, как теплая мечта
В дома он превращал сраженные деревья,
Вел в диких зарослях стальные поезда.
Тьму ночи озарив сияньем солнц бессонных,
Он тысячами строил города,
И тыщам фермеров в дороге их обратной
Из каждого окна светил он, как звезда.
Потом злой волей хлебных королей Чикаго
Был взорван рынок вдруг, разрушив все кругом.
Вошла зараза в чрево городов приморских,
Пустые корабли на рейде спят пустом.
В глазах больных детей голодный блеск чуть, тлеет
Ночами без огня, лишенным хлеба днем.
Их убивает голод, а паук гигантский
Наживы сеть соткал у входа в склад зерна,
И фермеров самих и фермерские земли
Опутала, как мух, и душит их она.
И едко — медленно, как соль сухого русла,
Ползет паучий яд, жизнь отравляя мне.
Жжет засуха меня, и сам гигант иссохший
Пьет мертвый зной пустынь и корчится в огне.
Теперь не течь ручьям былых надежд моих:
Забила прочно соль сухие русла их.
Когда меня к земле тяжелый сон придавит,
Я буду и тогда пшеницы слышать ропот.
Когда умру, меня на склоне схороните,
Чтоб золотой гигант корнями мог окутать
Меня в родной земле. Последний дар, быть может,
Его других даров великих всех дороже!»
Его зарыли там, где видел бы он ферму,
И где земля тучна и сгорбленное тело
Могла бы выпрямить своей земною тягой.
И радовал его веселый шум пшеницы…
Но вот теперь песок эрозии горячий,
Свистя, летит над ним, мне болью сушит горло,
А там, где отчий дом глядит в пустое поле,
Шатаясь, дверь стучит под ветром и дождями.
Австралия моя! О, мой народ забытый!
Могу ль я мирно спать, коль сердце кровью плачет?
Ведь мертвые со мною говорят сквозь землю,
Мечты не жившие мне отдают в наследство
И требуют их претворить в живое дело.
Нет, спать я не могу, пока вы не проснулись!
Да, мы, живущие так одиноко в мире,
С давно застывшими, морозными глазами,
Мы жаждем слов таких, чтоб в их огне оттаять,
И песен боевых, чтоб кровь воспламенили.
Нет, спать я не могу, пока нас гложет голод.
Кто золотых гигантов смел лишить их силы?
И крыльям засухи кружиться ль над полями?
Детей моей страны, судьбою обойденных,
И холоду и голоду доколе нянчить?
Я слышу: голоса рабочих рвут молчанье,
Тяжки, как молоты, и гулки, как моторы,
Как будто бы великая плотина наша
Вернулась к жизни вновь, и пульс ее забился:
«Три золотых гиганта медленно влачатся,
Ослеплены, обожжены, как уголь черный,
Горнами засухи, раздутыми в пустыне.
Они молчат покорно под свистящей плетью,
Согнулись до земли, в цепях, их оковавших,
Своими тяжкими свинцовыми руками
Кроша плотину нашу в самый мелкий щебень.
Они, что с песней шли, когда был Запад волен,
Теперь орудие жестоких монополий.
Им одолеть бы засуху и голод.
Но нет! Они сейчас рабы наживы,
Рабочий скот в ярме у Би-Эйч-Пи[40].
Оковы, что на них, и нам сдавили плечи,
И в безнадежный путь все тот же бич нас гонит.
Враги нам говорят: „Плотину строить бросьте
И к очагам спокойно возвратитесь!“
Но глубже проросли, чем корни эвкалиптов,
В родную землю корни воли нашей.
Как листья или пыль, ничто нас не развеет.
Вставайте на борьбу! Заставьте их платить нам
Тем золотом, что бога их — войну питало.
Творцы Австралии, мы создадим плотину!
Кто золотых гигантов выручит из плена?
В чем грозная их мощь, как не в руках рабочих?
Где дружно мы стоим, какой нас шторм осилит?
1953