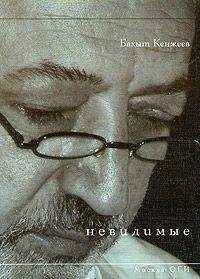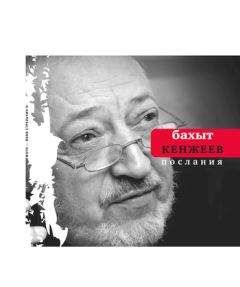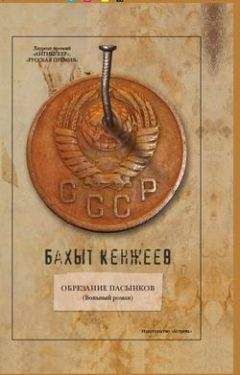29 января 2001 года
При жизни мы встречались редко. Я
был слишком горд, чтоб ударяться в поиск
контактов с мэтром. Музыку кроя
на свой манер, не слишком беспокоясь
о будущем, к испарине труда
и водки привыкая, в тайны слога
российского вгрызаясь, навсегда
я избежал попытки диалога,
в котором надлежало бы изречь
друг другу нечто главное, по типу
Державина и Пушкина, извлечь
орех из скорлупы, сдружиться, либо
поссориться. Но — комплексы, к чинам
почтение, боязнь житейских просьб и
презренной прозы. Нет, при встрече нам
разговориться вряд ли удалось бы.
Стоит зима, квадратный корень из
любви к небытию, присущей всякой
живущей твари, ослепительный эскиз
беды. Он замолчал, и, кажется, заплакал,
Бог дал, добавил тихо, Бог и взял,
и сгорбился в отчаянье невольном,
во всяком случае, поднес к глазам
платок, застиранный, как небо над Стокгольмом.
***
Блеск нейлоновой лески, неловкий крючок, костры
на обрыве. После глотка из железной фляги
понимаешь, как хороши созвездия, как остры
молодые лучи. Ползут по листу бумаги,
остроумно свернутому в ленту Мёбиуса, пчела
и глухой муравей, шевеля антеннами, то и дело
поднимаясь на задние лапы. Как там — насквозь прошла,
но жизненно важных органов не задела.
Рыболов, я уже не пишу по ночам многословных од.
Годы — такая штука. Одни ушли, а другие не наступили.
Так гроссмейстер, отдав мне право на первый ход,
Разгромил меня, как младенца, задолго до миттельшпиля.
Серебрятся во тьме берега воспаленных рек. Нельзя
в свете месяца отличить ладью от ферзя,
разве что наощупь. Дрожащим ольховым дымом
из-под ног уплывает земля во мраке непобедимом.
Расстегай под водку, навар от тройной ухи —
это всё отсутствует в области темной, древней,
где апостол взвешивает подвиги и грехи
много ревностней, чем в мировой деревне,
где грифон возлегает с единорогом, там,
где виляет, пуча глаза, душа по небесным вершам.
Мало что изменилось, далекий мой ибн-Натан,
с той поры, как ты считаешь меня умершим.
***
Св. Кековой
Век безлюдный, ржавый, пьяный,
с сердцем, стиснутым внутри.
Подари мне куб стеклянный,
шар свинцовый подари —
От Гомера до Абая,
от пчелы до мотылька,
словно чашка голубая
жизнь горючая хрупка,
и за снежным разговором
рвутся в дальние края
черный голубь, белый ворон,
светлый пепел бытия…
***
Стыдно сказать, но в последнее время я сущим сухим листом
ощущаю себя, тем сильнее, что мало-помалу ясно —
осыпается всякий сезонный праздник, в том
числе и победный салют небывалой частной
жизни, выдыхается, словно яблочный самогон
в чайном блюдце с каемкой, ее голубая влага,
и шуршит в темноте оберточная бумага
на подарке недорогом
По словам жены, я в ночи скрежещу зубами и, огрызаясь
на угрозы хозяев небесных, сумрачным их рабам
рассылаю в подарок сны о том, как мохнатый заяц
крепкой лапкой бьет в игрушечный барабан.
Дети мои, право слово, это проблема. Запас мой
(чувств и мыслей) оскудел, а пополнять его стало опасно. Ох.
По утрам, как отец покойный, я страдаю не то что астмой,
но застарелым кашлем курильщика. Вдох
вслед за выдохом все труднее. Подходит к штанге
спившийся легковес, подымает ее, роняет, всхлипнул, ушел, затих.
Так и я, дорогие мои, страшусь, что беспощадный ангел
изблюет меня, морщась, из уст своих.
Крепкое нынче пивко. И зима необычно сурова.
Вот персонаж мой любимый, бомж без денег и крова,
Раздобыл где-то баян, научиться играть сумел.
В переходе подземном поет, собирает монетки на опохмел
Мимо него бредет человечество, нация без отечества,
А над ним Христос, а под ним — могилы до самого центра земли.
Сердце еще колотится, ландышем горьким лечится,
В кепке мелочь с орлом ощипанным, полтинники да рубли.
Prосul este, profani. В смысле — прочь, посторонние.
Как для камня нет бороны, так для гибели нет иронии
(всю-то ночь радела, гасила в прихожей свет),
но для музыки нет предела, и смерти нет
***
Далеко еще до холмов и до гор еще далеко.
Над зеленеющей степью свет лилов, как подписанный приговор,
не спеша течет расплесканное молоко
облаков, и дрожит редкий воздух, не узнавая себя в упор.
Дремлю в самолете, скорчившись. А за бортом — весна.
Небо вибрирует, сотрясается ледяное небо,
и детские ангелы Рафаэля, растиражированные на
миллионах предметов ширпотреба,
опираются на него, как Христос — на воду
Галилейского озера, усмехаются, слезы льют.
Это вам, шепчут, лукавому роду,
нужна под ногами почва, нужен вечный приют.
Это вы, твердят, неблагодарные твари,
с образом в левой, и обрезом — в правой руке,
страсти ваши — словно дырка в воздушном шаре,
все-то рветесь в лес, волчата на цирковом поводке.
Я не слушаю этих безответственных откровений.
Я, как и все мои близкие, незадачливый сын земли.
Ангелы мои, ангелы, давно ль вы дружили с Веней
Ерофеевым — и куда его завели?
Я наслаждаюсь полетом, думая в полусне,
что пчелиные соты к апрелю совсем пусты,
и никаких пастухов в пустыне, конечно, не
различишь с такой головокружительной высоты.
***
Sous le pont Mirabeau coule la Seine…
Всей громадой серой, стальною
содрогается над Невою
долгий, долгий пролет моста.
Воды мутные, речи простые,
на перилах коньки морские,
все расставлено на места,
все измерено, все, как надо,
твоя совесть, как снег, чиста,
и в глазах сухая прохлада.
Это спутник твой — посторонний,
спутник твой тебя проворонил,
в плечи — голову, в землю — взгляд.
Осторожный, умный, умелый,
пусть получит он полной мерой,
сам виновен, сам виноват.
А над городом небо серое,
речка, строчка Аполлинера,
вырвусь, выживу, не умру.
Я оставлю тебя в покое,
я исчезну — только с тоскою
совладать не смогу к утру,
заколотится сердце снова,
и опять не сможет меня
успокоить дождя ночного
стариковская болтовня…
11 апреля 1975
Уладится, будем и мы перед счастьем в долгу.
Устроится, выкипит — видишь, нельзя по-другому.
Что толку стоять над тенями, стоять на снегу,
И медлить спускаться с пригорка к желанному дому.
Послушай, настала пора возвращаться домой,
К натопленной кухне, сухому вину и ночлегу.
Входи без оглядки, и дверь поплотнее прикрой —
Довольно бродить по бездомному белому снегу.
Уже не ослепнуть, и можно спокойно смотреть
На пламя в камине, следить, как последние угли
Мерцают, синеют, и силятся снова гореть,
И гаснут, как память — и вот почернели, потухли.
Темнеет фламандское небо. В ночной тишине
Скрипят половицы — опять ты проснулась и встала,
Подходишь наощупь — малыш разметался во сне,
И надо нагнуться, поправить ему одеяло.
А там, за окошком, гуляет метельная тьма,
Немые созвездья под утро прощаются с нами,
Уходят охотники, длится больная зима,
И негде согреться — и только болотное пламя…
1975
***
И. Ф.
Уходит город на покой,
ко лбу прикладывая холод,
и воздух осени сухой
стеклянным лезвием расколот.
Темные воды — кораблю,
безлюдье — сумрачной аллее.
Льет дождь, а я его люблю,
и расставаться с ним жалею.
А впрочем, дело не в дожде.
Скорее в том, что в час заката
деревья клонятся к воде,
бульвары смотрят виновато,
скорее в том, что в поймах рек
гремит гусиная охота,
что глубже дышит человек
и видит с птичьего полета:
горит его осенний дом,
листва становится золою,
ладони, полные дождем,
горят над мокрою землею…
1977