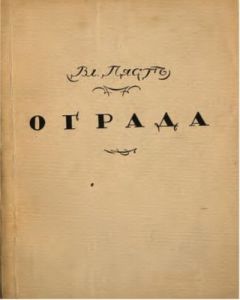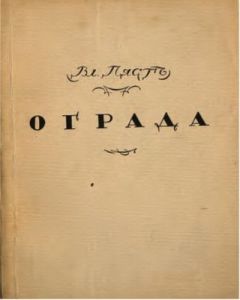«“Аррагонская Хота” твоя…»
«Аррагонская Хота» твоя
Мне милее всей музыки Фета, —
В ней родного, большого поэта
Всем дыханием чувствую я!
О, поэт, вдохновенный, поверь:
Тех созвучий сладчайших довольно,
Что звучали тебе своевольно, —
Чтобы стало тепло и привольно
Тем, кому так мучительно — больно,
Так томительно грустно теперь!
Это с другом не я ль говорил?
В этом теннисе бегал не я ли?
Как я мог не играть на рояли!
— И скамья то была не моя ли,
Где я клятвы свои повторил?..
Пусть же будет мрачнее и глуше,
И на сердце еще тяжелей, –
«Мне так просто, так весело с ней»,
С «Арагонскою Хотой» твоей,
Воскресающей скорбные души…
1912.
Когда Господь перелистает
Страницы хроники земной, –
Взор Жизнедавца заблистает,
Упав на письмена одной.
Он скажет: «Ты, Моею волей,
К недосягаемым верхам
Вознесена – стрельчатый храм,
Возникший на кровавом поле.
Во плоть влюбленные – могли
В свой час расстаться вольно с тленным,
Вы, предъявившие Вселенным
Печать Величия Земли».
Сентябрь 1914.
A LA BELGIQUE (Traduction du prece dant, faite par l’Auteur et Mr. Latchineff).
Quand Seigneur aura feuillete
Les annales de la Belgique,
Son oeuil brillera transporte,
Devant une page tragique.
Dieu dira: «Par ma volonte,
Toi, ma cathedrale pointue,
Au champ plein de sang apparue,
Vers l’infini tu as monte,
Car, tant amoureux de la chair,
Vous sutes quitter la poussiere,
En presentant aux Univers
Le sceau de grandeur de la Terre».
1914, Octobre.
Мы поселились когда-то, не зная друг друга, в Стокгольме;
Рюмберг был вашим жильем, – Континенталь был моим;
Я одиноко бродил по Юргордену или в Шеппсхольме,
Или по Вальхалля-вехьн, голодом лютым томим.
Вы, закупив кренделей, на четыре их дня разделили,
Немногочисленных крон, быстрый провидя конец…
Не был запасливым я — и тоскливые дни наступили:
В сутки съедал я один — в орэ ценой — леденец».
Деньги Руманов прислал. — Получив, я отчалил на Борэ, —
Вы ж в это время как раз — съев кренделька — голодать…
О, отчего не сулила судьба миг последнее орэ,
Вместе с последним стихом, вам дружелюбно отдать?
1915—17.
«Как гурии в магометанском
Эдеме в розах и шелку», —
Так мы в дружине ополченской
На прибалтийском берегу.
Сапог неделю не сымая,
В невыразимой духоте
В фуфайках теплых почиваем
(Все что с собою — на себе),
На нарах — этом странном ложе —
В грязи занозисто-сплошной,
Почти что друг на друге лежа,
Дыша испариной чужой;
Чужою деревянной ложкой,
Искапанной с чужих усов,
Хлебаем щи из миски общей
(Один состольник нездоров);
На тех же нарах (— что подошвы),
Где наши ноги, там и хлеб,
И протолкаться невозможно,
Когда хлебает взвод обед…
Никак ни времени, ни места,
Чтоб раз умыться, не урвать,
И насекомым стало тесно
В лесу волосяном гулять…
…Так жизнь такая превосходит
Блаженства мерой все, что мог
Своим любимцам уготовить
В раю пресветлом щедрый Бог!
И нет утонченнее пищи,
Чем те замусленные «шти»,
И помещений благовонней
Казармы — в мире не найти!
И тот слепец, кто в это время
В кафе поит вином девиц:
Не видит он, что вместе с теми
Ужей глотает и мокриц.
И жалок тот, кто тело в ваше
Купает, нежучи, свое:
Чем дух ее благоуханней, —
Тем тяжелее смрад ее.
А мы, в чудовищном удушье,
В грязи сверхмерной, слышим мы,
Как павших в славных битвах души
Поют военные псалмы,
И видим мы, как, предводимы
Самим Всевышним, — нашу рать
Сопровождают херувимы,
Уча бессмертно умирать…
Февраль 1915.
Мне тридцать лет, мне тысяча столетий,
Мне тридцать лет, мне тысяча столетий,
Мой вечен дух, я это знал всегда,
Тому не быть, чтоб не жил я на свете, —
Так отчего так больно мне за эти
Быстро прошедшие, последние года?
Часть Божества, замедлившая в Лете
Лучась путем неведомым сюда, —
Таков мой мозг. Пред кем же я в ответе
За тридцать лет на схимнице-планете,
За тридцать долгих лет, ушедших без следа?
Часть Божества, воскресшая в поэте
В часы его бессмертного труда —
Таков я сам. И мне что значат эти
Годов ничтожных призрачные сети,
Ничтожных возрастов земная череда?
За то добро, что видел я на свете,
За то, что мне горит Твоя звезда,
Что я люблю — люблю Тебя как дети —
За тридцать лет, за триллион столетий,
Благодарю Тебя, о Целое, всегда.
2 июля 1916
ПРИЛОЖЕНИЕ. СТИХИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В «ОГРАДУ» (1903-1907)
I. «Гармония в тебе, земная с неземной…»
Гармония в тебе, земная с неземной,
Слиты особенно и больше чем мистично,
И каждое твое движенье гармонично,
И все — и плач и смех твой — мелодично:
Иди за мной!
Ты знаешь, что тебя я понял необычно!
Я сразу увидал тебя иной, —
Иной чем все, — и с этих пор со мной
Остался навсегда твой образ неземной,
Глубокий безгранично…
Сентябрь 1903
II. «Здесь с тобою стоя рядом на причаленном плоту…»
Здесь с тобою стоя рядом на причаленном плоту,
Первый раз проник я взглядом в неземную высоту.
Смех твой, прудом отраженный, мне предстал как голос вод, —
И с тех пор преображенный мне раскрылся небосвод.
Разорвалась восприятий, чувств обычная кайма;
Сколько пламенных зачатий ты учуяла сама!
Как восторженно и ново мы друг друга обрели,
Разом сбросивши оковы зачарованной земли!
Начало 1904
IV. «Пойми же то, что нет определенья…»
Пойми же то, что нет определенья,
Что нет определенья – тебе и мне,
И оба мы – единой цепи звенья,
Одной мы цепи звенья, и в общем сне;
От века дал Творец предназначенье,
Мне бог дал назначенье – узреть тебя;
До той поры – душа как в заточенье,
Томилась в заточенье душа, скорбя.
Я был лишен и песнопений дара,
И песнопений дара не ждал я вновь,
И этот дар – твоя вернула чара,
Твоя вернула чара – к тебе любовь…
Могла ль моя – как зарево пожара,
Всем бешенством пожара не вспыхнуть страсть? –
Ведь ты как я небесного Эдгара,
Нездешнего Эдгара постигла власть! –
Февраль 1904.
«В этот первый вечер отсветом румяным…»
В этот первый вечер отсветом румяным,
Что скользит чуть зримо по цветным полянам,
Дальние деревья сплошь озарены…
В этот первый вечер — красное с зеленым
На деревьях дальних по волнистым кронам,
Красное с зеленым переплетены.
В этот вечер ветра, в этот вечер шумный
На душе — все тот же крик один безумный,
Наяву — все те же сладостные сны…
В этот вечер ветра — с бушеваньем моря
Давние виденья в вечно-новом споре, —
И душа с душою слитно сплетены.
Ст. Петергоф, май 1904.