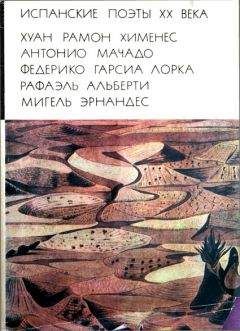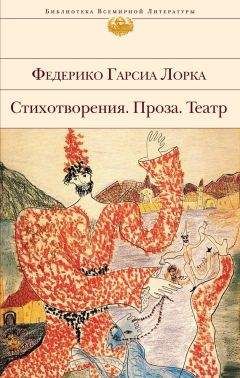БЫК СМЕРТИ
(«Уж если ночью…»)
Уж если ночью бодрствовать ты хочешь
и потаенный замысел судьбы
о каменные древние дубы
в текучей тьме шлифуешь ты и точишь,
уж если ты противнику пророчишь
блаженное неистовство борьбы
и самого себя, став на дыбы,
в свершители несбыточного прочишь,
уж если ты, когда все стадо спит,
не спишь, мечтой о роковом ударе
пронизан от рогов и до копыт, —
тогда пылай, как головня в пожаре,
беснуйся, свирепей и клокочи,
чтоб дочерна обуглиться в ночи.
(Пальмы в порту Гаваны —
вижу в пальмовой кроне
веер трибун многолюдных,
веер веро́ник{184}.
Мулатка в гуще людей —
натянуто пестрое платье
рогами острых грудей.
Румба мечется в круге,
в ритме ее движений,
врага настигая, кру́жит
бык по арене.
В вихре танцоры слиты,
дышит огненный танец
зноем корриды.
Игнасьо Санчес Мехиас
и Родольфо Гаона{185}!
Смерть уступает бессмертью,
страх — вне закона.
Будут слагать сказания
о крови и о песке
Мексика и Испания.
Зрители в «Эль Торео»
«Оле́!» кричали тебе,
индейцы от воплей восторга
переходили к стрельбе.
Тысячеустый рев
посвистом пуль удвоен:
«Да здравствует бой быков!»
Умер Санчес Мехиас.
Гаона, тебя твой друг
приветствует после смерти
пожатьем холодных рук.
Возьми же его клинок
и вложи ему в руки, Гаона,
венок.)
Что случилось?
Что сбыло́сь и что сталось?
Что сделалось, что совершилось?
Что произошло?
Смерть томилась от жажды и жадно лакала
стоячую воду из лужи —
ей хотелось бы выхлебать море;
смерть кидалась с налета на гладкую кладку оград,
смерть дырявила груди деревьев,
наполняла неслыханным ужасом уши ракушек,
ослепляла невиданным страхом анютины глазки;
не жалея зеленых мишеней листков,
смерть пронзала пространство и воздух, стараясь настичь,
поразить,
обескровить летящую легкость
двух стремительных ног.
Так задумала смерть еще до того, как родиться.
Как ты ищешь меня, — словно я — та река,
из которой ты пил отраженья лугов и лесов,
словно я — та волна, что тебе уступала бездумно,
обнимала тебя и, не ведая, кто ты таков,
отдавалась ударам рогов.
Как ты ищешь меня, — словно я — это холмик песка
и тебе его нужно вскопать до нутра, докопаться до сути,
но известно тебе, что не брызнет оттуда вода,
что не брызнет вода,
что вовеки оттуда не брызнет вода —¦
только кровь;
нет, не брызнет вода,
никогда,
во веки веков.
Нет на свете часов,
нет часов, циферблата и стрелок,
по которым я время отмерить бы мог для спасенья от смерти.
(Плывет погребальная лодка,
на ней бездыханное тело,
стрелка на циферблате
оцепенела.
«Оле, тореро!» —
Крики смолкают, дробясь
о доски барьера.)
БЫК СМЕРТИ
(«И наконец жестокие стремленья…»)
И наконец жестокие стремленья
воплощены: вот красный всплеск огня;
он зыблется невдалеке, дразня
и доводя тебя до исступленья.
Не слепота, не умопомраченье
тобою правят, по кругам гоня, —
преследовать живую радость дня
тебе велит твое предназначенье.
Вот черноту окрасил алый гнев,
и ты терзаешь клячу пикадора,
ее рогами злобными поддев.
Но обречен и ты. Увижу скоро,
как тушу распростертую твою
потащат мулы прочь, к небытию.
(Августовскою ночью скачет
пастух сквозь туман,
без седла, без поводьев,
без шпор и стремян.
Он гонит стадо быков,
черных, рыжих и пестрых,
все быки — без голов.)
Так река разлилась, что не видеть уже мне вовеки,
как теченье колышет камыш;
так набухла река, что, затоплен по горло, тростник цепенеет;
неотступный кровавый потоп, набухая и ширясь,
образует из гор и лесов острова,
и плавучей каймою качаются вкруг островов бесконечные трупы —
вереницы убитых быков.
Погружаясь, всплывая, кружа́тся в медлительных
водоворотах,
всё кружатся, кружатся, кружатся,
и не могут они уступить притяжению донных глубин,
ибо мертвое тело упрямо и
легче воды.
Уберите убитых быков.
Я плыву, я плыву, отдаваясь теченью и ветру,
лишь избавьте меня от кровавой лавины убитых быков,
преграждающей путь.
Уберите быков, я прошу вас, — расчистите воду,
плыть хочу я по чистой воде,
по свободной воде,
по свободной реке.
Старый друг, ведь плывете вы сами, плывете, как я,
старый друг, вам понятно, понятно, куда я плыву,
друг, ты знаешь куда, друг, ты знаешь, куда я плыву,
не забудь меня, друг, не забудь…
Я забыл, что всегда говорил тебе «вы», а не «ты»,
я сегодня об этом забыл.
(Откуда плывешь ты, откуда,
и где ты хочешь пристать?
Под тяжестью непомерной
прогнулась речная гладь.
Я тоже мертв и плыву
к острову Сан-Фернандо{186},
во сне… наяву…)
ДВЕ АРЕНЫ
(«Твоею кровью и твоей отвагой…»)
Твоею кровью и твоей отвагой
гордятся две арены. И на них
мне сердце жгут, его пронзают шпагой.
Одна арена здесь, а там другая,
и кровь твоя в артериях моих
пульсирует, стучит не умолкая.
Кровь гибели твоей — на той арене,
а здесь — в крови, тобою сражена,
смерть рухнула впервые на колени.
Кровь двух арен в себя впитали реки,
моря и суша, ветер и луна,
и будет кровь твоя жива вовеки,
как шпаги взмах,
перед которой отступает страх.
(Найти тебя и не встретить,
встретить и не найти:
ты за порогом смерти,
я — в пути.)
Цирк «Эль Торео» Мехико, 13.VIII.1935
Из книги
«С МИНУТЫ НА МИНУТУ» (1934–1939){187}
РАБЫ
Перевод М. Квятковской