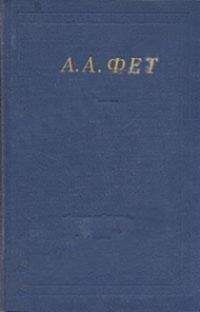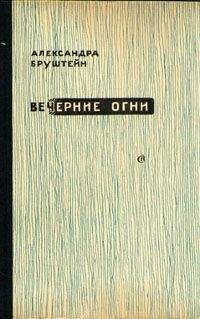(31 мая 1891)
«Прощай, Тереза! Печальные тучи…»
Прощай, Тереза! Печальные тучи,
Что томным покровом луну облекли,
Еще помешают улыбке летучей,
Когда твой любовник уж будет вдали.
Как этитучи, я долгою тенью
Мрачил твое сердце и жил без забот.
Сошлись мы — как верила ты наслажденью,
Как верила счастью, — о боже!.. И вот,
Теперь свободна ты, диво соданья, —
Скорее тяжелый свой сон разгоняй;
Смотри, и луны уж прошло обаянье,
И тучи минуют, — Тереза, прощай!
1847
«О, солнце глаз бессонных — звездный луч…»
О, солнце глаз бессонных — звездный луч,
Как слезно ты дрожишь меж дальних туч!
Сопутник мглы, блестящий страж ночной,
Как по былом тоска сходна с тобой!
Так светит нам блаженство дальних лет:
Горит, а всё не греет этот свет;
Подруга дум воздушная видна,
Но далеко, — ясна, но холодна.
1844
Подражание XVI Идиллии Биона
Прекрасная звезда Венеры светлоокой!
Пока свое чело за рощею далекой
Диана нежная скрывает, освети
Кустарник тот и холм для моего пути.
Я оставляю кров не для ночных хищений,
На путников в душе не крою покушений.
Нет, я люблю и жду возмездия забот
От нимфы молодой, красы между красот, —
Как в мириаде звезд, Дианой предводимой,
Краса ночных небес, горит твой луч любимый.
1847
«Ланиты у меня на солнце загорели,
И ноги белые от терний покраснели.
День целый я прошла долиною; влекли
Меня со всех сторон блеяния вдали.
Бегу, — но, верно, ты скрываешься, враждуя;
Всё пастухи не те! О, где же, где найду я
Тебя, красавец мой? Скажи, поведай мне,
Где ты пасешь стада? В которой стороне?
О нежный отрок, ты краснеешь предо мною!
Взгляни, как я бледна, — истомлена тобою:
Люблю твое чело невинное и нрав.
Пойдем. — Не всё ж искать ребяческих забав.
О нежный отрок мой, узнай, как я страдаю:
Хочу забыть тебя — и всё не забываю.
Прекрасное дитя, к тебе влекут мечты:
Как дева робкая, склоняешь взоры ты.
Грудь белая твоя, полуприкрыта тканью,
Еще не отдалась любовному желанью.
Пойдем. Узнаешь всё. Тебя я научу.
С душою девственной беседовать хочу.
Пока, преодолев невольное смущенье,
Как я, познаешь ты и взохи и томленье,
А детских щек твоих вот этот пышный цвет —
Единственно моих лобзаний будет след.
О, если б наконец ты раннею зарею
Пришел на грудь ко мне приникнуть головою!
Я, сон лелея твой, боялась бы дохнуть,
Чтоб не будить тебя, дышала бы чуть-чуть,
И, складки тонкого раскинув покрывала,
Я б от ланит твоих горячих отгоняла
И дерзких комаров и беспокойных пчел».
…… … … …
И Нимфа, отрока сыскав, стоит, вздыхает,
Трепещет и его с собою увлекает.
Садится на траву. Ей уступает он,
И горд, и втайне рад, и явно пристыжен.
Уж прикоснулася неверными перстами
Она к нему. Одна рука ее кудрями
Играет отрока, другая же рука
Ласкает шелк ланит младенческих слегка.
«Дитя, — зовет она, — приди на зов мой страстный,
Прекрасен, юн, ко мне, и юной, и прекрасной,
Ко мне, прелестный друг, ты на колени сядь.
Скажи, как много лет успел ты сосчитать?
Бывал ли первым ты борцом между друзьями?
Им нынче, говорят, скользящими руками,
Счастливцам, жать пришлось тебя к груди своей.
И на тебе сиял струящийся елей.
Ты потупляешь взор? О, как должна гордиться
Та, у которой мог, красавец, ты родиться!
Богинею рожден ты, верно. Что с тобой?
Ты весь дрожишь. Дитя, коснись вот здесь рукой:
Грудь у меня пышней, чем у тебя, скруглилась.
Но это — знаешь ли? — быть может, опустилась
Одежда женская перед тобой хоть раз? —
Но это не одно различие у нас.
Ты улыбаешься, краснея? Как сияет
Огонь твоих очей! Как твой румянец тает!
Не Гиацинт ли ты, любимый сын небес?
Иль тот, за кем орла ниспосылал Зевес?
Иль тот, кто, зарожден богинь пленять собою,
Из лона Мирры шел, одетого корою?
Дитя, кто б ни был ты, хочу тебя обнять!
Дитя, люби меня! Как часто отвергать
Умела юношей я пыл неукротимый;
Но ты, ты будь моим, хочу я быть любимой!
…… … … …
И возвестит векам мой камень гробовой,
Что Гименеем был развязан пояс мой».
(Конец 1857 или начало 1858)
«Супруг надменный коз, лоснящийся от жиру…»
Супруг надменный коз, лоснящийся от жиру,
Встал на дыбы и, лоб склоня, грозит сатиру.
Сатир, поняв его недружелюбный вид,
Сильнее уперся разрезами копыт, —
И вот навстречу лбу несется лоб наклонный,
Удар — и грянул лес, и дрогнул воздух сонный.
(Конец 1857 или начало 1858)
О Франция, мой час настал, я умираю,
Возлюбленная мать, прощай! Покину свет, —
Но имя я твое последним повторяю.
Любил ли кто тебя сильней меня? О нет!
Я пел тебя, еще читать не наученный,
И в час, как смерть удар готова нанести,
Еще поет тебя мой голос утомленный.
Почти любовь мою одной слезой… Прости!
Когда цари пришли и гордой колесницей
Тебя растоптанной оставили в пыли,
Я кровь твою унять умел их багряницей
И слезы у меня целебные текли.
Бог посетил тебя грозою благотворной;
Благословениям грядущего внимай:
Осеменила имир ты мыслью плодотворной,
И равенство пожнет ее плоды. Прощай!
Я вижу, что лежу полуживой в гробнице,
О, защити же всех, кто мною был любим!
Вот, Франция, твой долг смиренной голубице,
Не прикасавшейся к златым полям твоим.
Но, чтоб ты слышала, как я к тебе взываю,
В тот час, как бог меня в иной приемлет край,
Свой камень гробовой с усильем подымаю…
Рука изнемогла, он падает… Прощай!
(1857)
От садового входа впопыхах воевода
В дом вбежал, — еле дух переводит;
Дернул занавес, — что же? глядь на женино ложе —
Задрожал, — никого не находит.
Он поник головою и дрожащей рукой
Сивый ус покрутил он угрюмо;
Взором ложе окинул, рукава в тыл закинул,
И позвал казака он Наума.
«Гей, ты, хамово племя! Отчего в это время
У ворот ни собаки, ни дворни?
Снимешь сумку барсучью и винтовку гайдучью
Да с крюка карабин мой проворней.»
Взяли ружья, помчались, до ограды подкрались,
Где беседка стоит садовая.
На скамейке из дерна что-то бело и черно:
То сидела жена молодая.
Белой ручки перстами, скрывши очи кудрями,
Грудь сорочкой она прикрывала,
А другою рукою от колен пред собою
Плечи юноши прочь отклоняла.
Тот, к ногам преклоненный, говорит ей, смущенный,
«Так конец и любви, и надежде!
Так за эти объятья, за твои рукожатья
Заплатил воевода уж прежде!
Сколько лет я вздыхаю, той же страстью сгораю, —
И удел мой страдать бесконечно!
Не любил, не страдал он, лишь казной побряцал он, —
И ты всё ему предала вечно.
Он — что ночь — властелином, на пуху лебедином
Старый лоб к этим персям склоняет
И с ланит воспаленных и с кудрей благовонных
Мне запретную сладость впивает.
Я ж, коня оседлавши, чуть луну увидавши,
Тороплюся по хладу ненастья,
Чтоб встречаться стенаньем и прощаться желаньем
Доброй ночи и долгого счастья.»
Не пленивши ей слуха, верно, шепчет ей в ухо
Он иные мольбы и заклятья,
Что она без движенья и полна упоенья
Пала к милому тихо в объятья.
С казаком воевода ладят с первого взвода
И патроны из сумки достали,
И скусили зубами, и в стволы шомполами
Порох с пулями плотно загнали.
«Пан, — казак замечает, — бес какой-то мешает:
Не бывать в этом выстреле толку.
Я, курок нажимавши, сыпал мимо, дрожавши,
И слеза покатилась на полку.»
— «Ты, гайдук, стал калякать? Научу тебя плакать,
Только слово промолвить осмелься!
Всыпь на полку, да живо! сдерни ногтем огниво,
И той женщине в лоб ты прицелься.
Выше, враправо, до разу, моего жди приказу!
Молодца-то при первом наводе…»
Но казак не дождался, громко выстрел раздался
И прямехонько в лоб — воеводе.
(1846)