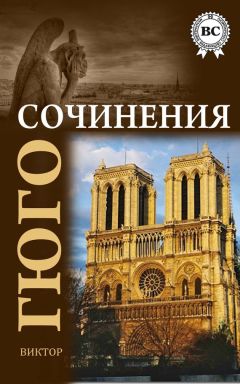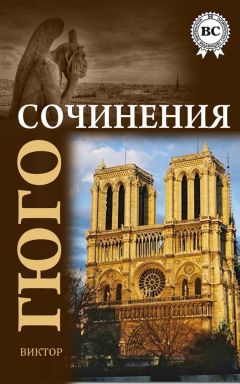— Ты весь во власти мечты.
— Нет, я во власти реальности.
Говэн добавил:
— А женщина? Какую вы ей предоставляете роль?
— Ту, что ей свойственна, — ответил Симурдэн. — Роль служанки мужчины.
— Согласен. Но при одном условии.
— Каком?
— Пусть тогда и мужчина будет слугой женщины.
— Что ты говоришь? — воскликнул Симурдэн. — Мужчина — слуга женщины! Да никогда! Мужчина — господин. Я признаю лишь одну самодержавную власть — власть мужчины у домашнего очага. Мужчина у себя дома король.
— Согласен. Но при одном условии.
— Каком?
— Пусть тогда и женщина будет королевой в своей семье.
— Иными словами, ты требуешь для мужчины и для женщины…
— Равенства.
— Равенства? Что ты говоришь! Два таких различных существа…
— Я сказал «равенство». Я не сказал «тождество».
Вновь воцарилось молчание, словно два эти ума, метавшие друг в друга молнии, на минуту заключили перемирие. Симурдэн нарушил его первым:
— А ребенок? Кому ты отдашь ребенка?
— Сначала отцу, от которого он зачат, потом матери, которая носила его под сердцем, потом учителю, который его воспитает, потом городу, который сделает из него мужа, потом родине — высшей из матерей, потом человечеству — великому родителю.
— Ты ничего не говоришь о боге.
— Каждая из этих ступеней: отец, мать, учитель, город, родина, человечество — все они ступени лестницы, ведущей к богу.
Симурдэн молчал, а Говэн говорил:
— Когда человек достигнет верхней ступени лестницы, он придет к богу. Бог откроется человеку, и человек войдет в его лоно.
Симурдэн махнул рукой, словно желая предостеречь друга.
— Говэн, вернись на землю. Мы хотим осуществить возможное.
— Не сделайте для начала его невозможным.
— Возможное всегда осуществимо.
— Нет, не всегда. Если грубо отшвырнуть утопию, ее можно убить. Есть ли что-нибудь более хрупкое, чем яйцо?
— Но и утопию нужно сначала обуздать, возложить на нее ярмо действительности и ввести в рамки реального. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную; пусть она потеряет в красоте, зато приобретет в полезности; пусть будет не столь широкой, зато станет вернее. Необходимо, чтобы право входило в закон, и когда право становится законом, оно становится абсолютом. Вот что я называю возможным.
— Возможное гораздо шире.
— Ну, вот ты снова начал мечтать.
— Возможное — это таинственная птица, извечно парящая над нами.
— Значит, нужно ее поймать.
— Но только живую.
Говэн продолжал:
— Моя мысль проста: всегда вперед. Если бы бог хотел, чтобы человек пятился назад, он поместил бы глаза на затылке. Так будем же всегда смотреть в сторону зари, расцвета, рождения. Падение отгнившего поощряет то, что начинает жить. Треск старого рухнувшего дерева — призыв к молодому деревцу. Пусть каждый век свершит свое деяние, ныне гражданское, завтра человеческое. Ныне стоит вопрос о праве, завтра встанет вопрос о заработной плате. Слова «заработная плата» и «право» в конечном счете означают одно и то же. Жизнь человека должна быть оплачена; давая человеку жизнь, бог берет на себя обязательство перед ним; право — это прирожденная плата; заработная плата — это приобретенное право.
Говэн говорил проникновенно, как пророк. Симурдэн слушал. Они поменялись ролями, и теперь, казалось, ученик стал учителем.
Симурдэн прошептал:
— Уж очень ты скор.
— Что поделаешь! Приходится поторапливаться, — с улыбкой ответил Говэн. — Учитель, вот в чем разница между нашими двумя утопиями. Вы хотите обязательной для всех казармы, я хочу школы. Вы мечтаете о человеке-солдате, я мечтаю о человеке-гражданине. Вы хотите грозного человека, а я — мыслящего. Вы основываете республику меча, я хотел бы основать…
Он помолчал.
— Я хотел бы основать республику духа.
Симурдэн, глядя на черные плиты пола, спросил:
— А пока что ты хочешь?
— Того, что есть.
— Следовательно, ты оправдываешь настоящий момент?
— Да.
— Почему?
— Потому что это гроза. А гроза всегда знает, что делает. Сжигая один дуб, она оздоравливает весь лес. Цивилизация была заражена чумой; нынешний могучий ветер несет ей исцеление. Возможно, он не особенно церемонится. Но может ли он действовать иначе? Ведь слишком много надо вымести грязи. Зная, как ужасны миазмы, я понимаю ярость урагана.
Говэн продолжал:
— А впрочем, что мне бури, когда у меня есть компас. Что мне бояться страшных событий, раз у меня есть совесть.
И он добавил тем низким голосом, который звучит торжественно:
— Есть некто, чьей воле нельзя чинить препятствия.
— Кто же это? — спросил Симурдэн.
Говэн указал пальцем ввысь. Симурдэн проследил взглядом его движение, и ему почудилось, что сквозь каменные своды темницы он прозревает звездное небо.
Они снова замолчали.
Наконец Симурдэн сказал:
— Ты выходишь за пределы реального общества. Я уже говорил тебе — это не область возможного, это мечта.
— Это цель. А иначе зачем людям общество? Живите в природе. Будьте дикарями. Таити, на ваш взгляд, рай, но только в этом раю нет места для мысли. А по мне, куда лучше мыслящий ад, нежели безмозглый рай. Да нет, при чем здесь ад! Будем людьми, обществом людей. Возвысимся над природой. Именно так. Если человек ничего не привносит в природу, зачем же покидать ее лоно? Удовлетворитесь тогда работой, как муравьи, и медом — как пчелы. Будьте рабочей пчелой, а не мыслящей владычицей улья. Если вы привносите хоть что-то в природу, вы тем самым неизбежно возвышаетесь над ней; привносить — значит увеличивать; увеличивать — значит расти. Общество — та же природа, но природа улучшенная. Я хочу того, чего нет у пчел в улье, чего нет у муравьев в муравейнике: мне нужны памятники зодчества, искусство, поэзия, герои, гении. Вечно гнуть спину под бременем тяжкой ноши — неужели таков человеческий закон? Нет, нет и нет, довольно париев, довольно рабов, довольно каторжников, довольно отверженных!
Я хочу, чтобы все в человеке стало символом цивилизации и образцом прогресса; для ума я хочу свободы, для сердца — равенства, для души — братства. Нет! Прочь ярмо! Человек создан не для того, чтобы влачить цепи, а для того, чтобы расправить крылья. Пусть сгинут люди-ужи. Я хочу, чтобы куколка стала бабочкой, хочу, чтобы земляной червь превратился в живой крылатый цветок и вспорхнул ввысь. Я хочу…
Он остановился. Глаза его блестели. Губы беззвучно шевелились. Он что-то шептал про себя.
Дверь темницы так и не закрыли. Какие-то невнятные шумы проникали снаружи в подземелье. Слышалось далекое пение горна, очевидно, играли зорю; потом раздался стук прикладов о землю — это сменился караул; потом возле башни, сколько можно было судить из темницы, послышалось какое-то движение, словно перетаскивали и сваливали доски и бревна; раздались глухие и прерывистые удары — должно быть, перестук молотков.
Симурдэн, бледный как полотно, вслушивался в эти звуки. Говэн не слышал ничего. Он все больше уходил в свои мечты. Казалось даже, что он не дышит, с таким напряженным вниманием всматривался он в прекрасное видение, возникшее перед его глазами. Все его существо пронизывал сладостный трепет. Свет зари, зажегшийся в его зрачках, разгорался все ярче.
Так прошло несколько минут. Симурдэн спросил:
— О чем ты думаешь?
— О будущем, — ответил Говэн.
И он снова погрузился в мечты. Симурдэн поднялся с соломенного ложа, где они сидели бок о бок. Говэн даже не заметил этого. Симурдэн, не отрывая взгляда от своего задумавшегося ученика, медленно отступил к двери и вышел.
Дверь темницы захлопнулась.
VI
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СОЛНЦЕ ВЗОШЛО
В небе занималась заря.
Одновременно с рассветом на плоскогорье Тург, выше Фужерского леса, появилось нечто странное, неподвижное, загадочное и незнакомое небесным птицам.
Появилось здесь за ночь. Скорее выросло, чем было построено. Силуэт, вырисовывавшийся на фоне неба прямыми и жесткими линиями, издали напоминал букву древнееврейского алфавита или один из египетских иероглифов, с помощью которых была начертана одна из загадок древности.
Первая мысль, которую вызывал этот предмет, была мысль о его ненужности. Он стоял среди цветущего вереска. Невольно возникал вопрос: каково его назначение? Затем глядевшего охватывал трепет. Это сооружение напоминало помост, установленный на четырех столбах. На одном краю помоста были укреплены стоймя еще два столба, соединенные поверху перекладиной, к которой был подвешен треугольник, казавшийся черным на фоне утренней лазури. К другому краю помоста вела лестница. Внизу между двумя столбами прямо под треугольником можно было различить две доски, образующие вертикальную раздвижную раму, посреди которой имелось круглое отверстие, равное по диаметру размерам человеческой шеи. Верхняя часть рамы скользила на пазах, так что не составляло труда ее опустить или поднять. Сейчас обе части рамы, которые при соединении образовывали посредине круглое отверстие, были раздвинуты. У подножия двух столбов с перекладиной, к которой был прикреплен треугольник, виднелась доска, легко вращающаяся на шарнирах и походившая на обыкновенную доску качелей. Рядом с этой доской стояла продолговатая корзина, а между двух столбов впереди, на краю помоста, вторая корзина — квадратная. Она была выкрашена в красный цвет. Все сооружение было деревянное, за исключением металлического треугольника. Чувствовалось, что оно возведено руками человека, — таким оно было безобразным, жалким и ничтожным; и в то же время возвести его не погнушались бы и духи зла — таким оно было ужасным.