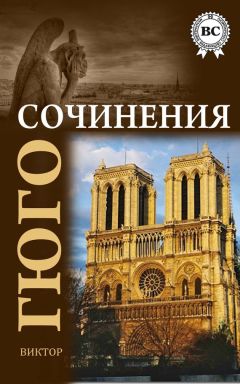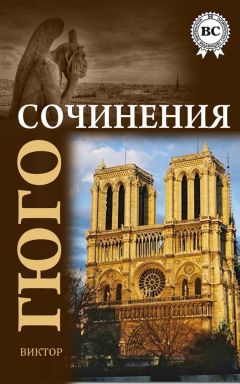Это уродливое сооружение было гильотиной.
Напротив нее, всего в нескольких шагах по ту сторону рва, возвышалось другое чудище — Тург. Каменное чудовище как будто дополняло чудище деревянное. Заметим кстати: стоит человеку коснуться дерева или камня, как и дерево и камень уже перестают быть деревом и камнем, а перенимают нечто от человека. Здание — это догма, машина — это идея.
Тургская башня была роковым итогом прошлого, который в Париже именовался Бастилией, в Англии — Лондонской башней, в Германии — Шпильбергом, в Испании — Эскуриалом, в Москве — Кремлем, в Риме — замком св. Ангела.
В Турге было воплощено целых пятнадцать столетий: все средневековье, вассалы, крепостничество, феодализм, а в гильотине — только один год — девяносто третий; и эти двенадцать месяцев весили не меньше, чем пятнадцать веков.
Башня Тург — это была монархия; гильотина — это была революция.
Трагическое сопоставление.
С одной стороны — долги, с другой — расплата. С одной стороны — сложнейший лабиринт средневековья: крепостной и помещик, раб и хозяин, простолюдин и вельможа, лоскутное законодательство, обраставшее обычаями, судья и священник, действующие заодно, бесчисленные путы, поборы казны, подати сеньору, соляной налог, закрепощение, подушная подать, прерогативы, предрассудки, всяческий фанатизм, королевские милости, скипетр, трон, произвол, божественное право; с другой стороны — нечто простое: нож гильотины.
С одной стороны — узел; с другой — топор.
Долгие века башня Тург простояла в одиночестве среди пустынных лесов. Из ее устрашающих бойниц на голову врага лилось кипящее масло, горящая смола и расплавленный свинец; ее подземелья, усыпанные человеческими костями, ее застенки для четвертования были ареной неслыханных трагедий; мрачной громадой возвышалась она над этим лесом; пятнадцать веков укрытая лесной сенью, она вкушала грозный покой, на много миль вокруг она была единственной владычицей, единственным кумиром и единственным пугалом; она царила, она была само варварство, варварство самодержавное, — и вдруг прямо перед ней, словно дразня ее, возникло что-то, нет, не что-то, а кто-то столь же ужасный, как она сама, — возникла гильотина.
Иной раз кажется, что камень тоже видит своим загадочным оком. Статуя наблюдает, башня подкарауливает, фасад здания взирает. Башня Тург словно приглядывалась к гильотине.
Она будто пыталась понять, спрашивала себя: «Что это здесь такое?»
Странное сооружение, оно как бы выросло из-под земли.
И впрямь оно выросло из-под земли.
Проклятая земля породила зловещее древо. Из этой земли, щедро политой потоками пота, слез, крови, из этой земли, изрезанной сотнями рвов, могил, тайников, подземных ходов, из этой земли, где тлели кости многих и многих мертвецов, принявших все виды смерти, измышленной всеми тиранами, из этой земли, скрывавшей столько гибельных бездн, схоронившей в себе столько злодеяний, ставших роковым посевом, — из недр этой земли в назначенный срок выросла эта незнакомка, эта мстительница, эта жестокая машина, подъявшая меч, и девяносто третий год сказал старому миру: «Я здесь».
Гильотина с полным правом могла сказать башне: «Я твоя дщерь».
И в то же время башня предугадывала (ведь подобные роковые громады живут своей сокрытой жизнью), что гильотина убьет ее.
Башня Тург робела перед возникшим перед ней грозным видением. Да, она словно испытывала страх. Это страшилище, эта каменная громада была величественна и гнусна, но плаха с треугольником была хуже. Развенчанное всемогущество трепетало перед всемогуществом новоявленным. Историческое преступление взирало на историческое возмездие. Былое насилие тягалось с сегодняшним насилием; старинная крепость, старинная темница, старинное обиталище сеньоров, в стенах которого звучали вопли пытаемых, это сооружение, предназначенное для войн и убийств, ныне непригодное ни для жилья, ни для осад, опозоренная, поруганная, развенчанная груда камней, столь же ненужная, как куча золы, мерзкий и величественный труп, эта хранительница зверских ужасов минувших столетий смотрела, как наступает грозная, но живая година. Вчерашний день трепетал перед сегодняшним днем; жестокая старина лицезрела новое страшилище и склонялась перед ним; то, что стало ничем, глядело сумрачным оком на то, что стало ужасом; видение всматривалось в призрак.
Природа безжалостна; она не желает перед лицом людской мерзости поступаться своими цветами, своей музыкой, своими благоуханиями и своими лучами; она подавляет человека контрастом божественной красоты и социального уродства; она не щадит его, подчеркивая яркость крылышка бабочки, очарование соловьиной трели, и человек в разгар убийства, в разгар мщения, в разгар варварской бойни осужден взирать на эти святыни; ему не скрыться от укора, который шлет ему отовсюду благость вселенной и неумолимая безмятежность небесной лазури. Видно, так надо, чтобы все безобразие человеческих законов выступало во всей своей неприглядной наготе среди вечной красоты мира. Человек крушит и ломает, человек опустошает, человек убивает; а лето — все то же лето, лилия — все та же лилия, звезда — все та же звезда.
Никогда еще в ясном небе не занимался такой чудесный рассвет, как в то летнее утро. Теплый ветерок шевелил заросли вереска, клочья тумана лениво цеплялись за сучья дерев. Фужерский лес, весь наполненный свежим дыханием ручейков, словно огромная кадильница с благовониями, дымился под первыми лучами солнца; синева небес, белоснежные облачка, прозрачная гладь вод, вся гамма цветов от аквамарина до изумруда, купы деревьев, по-братски переплетшихся ветвями, ковер трав, широкие равнины — все было исполнено той чистоты, которую природа создает в извечное назидание человеку. Среди этой мирной картины, словно напоказ, выставляло себя мерзкое людское бесстыдство; среди мирной картины виднелись друг против друга крепость и эшафот, орудие войны и орудие казни, образ кровожадных веков и обагренной кровью минуты, ночная сова прошлого и летучая мышь, возникшая в предрассветном сумраке будущего. И перед лицом цветущей, благоуханной, любвеобильной и прекрасной природы сияющие небеса, заливая светом зари башню Тург и гильотину, казалось, говорили людям: «Смотрите, вот что делаю я и что делаете вы».
Такое страшное применение находит себе иной раз солнечный свет.
Это зрелище имело своих зрителей.
Четыре тысячи человек, составлявшие экспедиционный отряд, стояли в боевом строю на плоскогорье. Шеренги солдат окружали гильотину с трех сторон, образуя геометрическую фигуру или, вернее, букву «Е»; батарея, расположенная в центре длинной ее стороны, служила для этого «Е» перпендикулярной черточкой. Казалось, что выкрашенное в красный цвет сооружение заключено меж трех фронтов битвы, отгорожено живой стеной, доходившей с двух сторон до самого края плоскогорья; четвертая сторона была открыта, здесь проходил ров, за которым высилась башня.
Таким образом, получился как бы вытянутый прямоугольник, середину которого занимал эшафот. По мере того как разгоралась заря, тень от гильотины, лежавшая на траве, все укорачивалась.
Канониры стояли с зажженными факелами возле своих орудий.
Из оврага подымался тонкий синеватый дымок — там дотлевал пожар, уничтоживший мост.
Дымок заволакивал Тургскую башню, не скрадывая ее очертаний, вышка ее по-прежнему царила над всей округой. Башня была отделена от гильотины лишь шириною рва. Стоя на эшафоте и на вышке, люди могли бы свободно переговариваться.
На площадку вышки поставили судейский стол, стул и прикрепили позади трехцветные знамена. Заря разгоралась за Тургом, в ее лучах черная громада башни четко выступала на фоне порозовевшего неба, а на верху башни виднелся силуэт человека, — скрестив руки, он неподвижно сидел на стуле, осененном знаменами.
Этот человек был Симурдэн. Как и накануне, на нем была одежда гражданского делегата, шляпа с трехцветной кокардой, сабля на боку и пистолеты за поясом.
Он молчал. Молчали все. Солдаты стояли, приставив ружья к ноге и не поднимая глаз. Каждый касался локтем соседа, но никто не произнес ни слова. В памяти людей вставали картины войны — бесчисленные схватки, бесстрашное движение цепи с ружьями наперевес, толпы разъяренных крестьян, рассеянных их пальбой, взятые крепости, выигранные сражения, победы, — и теперь им казалось, что былая слава оборачивается позором. Грудь каждого сжимало мрачное ожидание. Все глаза были прикованы к палачу, расхаживавшему по высокому помосту гильотины. Свет разгоравшегося дня охватил полнеба.
Вдруг до толпы донесся тот приглушенный звук, который издают барабаны, обернутые крепом. Похоронная дробь с каждой минутой становилась громче; ряды раздвинулись, и вступившее в это каре шествие направилось к эшафоту.