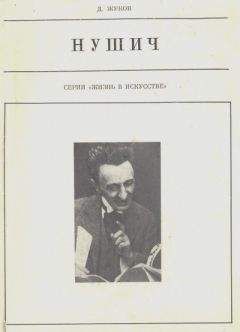Радикальный лидер Пера Тодорович в свое время, вторя Писареву, даже написал статью под названием «Уничтожение искусства». Дело дошло до того, что некоторые «новые люди» стали вообще презирать литературу как бесполезную буржуазную роскошь. А для самого Перы Тодоровича две сосиски, возможно, и в самом деле были ценнее целого Шекспира, а пара сапог полезнее всех произведений Пушкина.
В 1932 году, выступая перед спектаклем студенческой труппы, Нушич вспоминал об обстановке, царившей в университете пятьдесят лет назад:
«…Подули какие-то странные, ультрареалистические ветры, проповедовалось уничтожение эстетики, а поэзия была выброшена на улицу как ненужная безделка. В то время посвящать себя искусству казалось зазорным, считалось профанацией, на нас показывали пальцем, нас считали еретиками. Поговаривали, не выбросить ли нас из университета, как недостойных. В университете состоялись митинги, на которых призывали отречься от нас, оградиться от нашего губительного влияния, а наши матери озабоченно плакали — боялись, что их дети пропадут, став комедиантами…»
Опасения матерей были напрасны. Актеры-любители впоследствии вырастали в профессоров университета, дипломатов. А Павлу Маринковичу, новому другу Нушича, даже предстояло стать министром.
* * *
Срок службы в армии, по сербским законам, для студентов был сокращен до одного года, отбывать его разрешалось по частям, в каникулярное время. Однако летом 1885 года король приказал призвать всех студентов старше двадцати лет.
Бранислав Нушич прошел медицинскую комиссию и поступил вместе с другими студентами под начало капрала Любы. Юмориста всегда удивляла логика военных медицинских комиссий: «неспособных жить она объявляет неспособными умереть, а способных жить она признает способными умереть».
Так или иначе, Браниславу пришлось расстаться со своей живописной шевелюрой. Его обрядили в необъятные штаны, рукава мундира болтались, как у Арлекина. Настоящий «Флоридор из оперетты „Мадемуазель Нитуш“», — вспоминал Нушич.
«Первую неделю служения отечеству мы не испытывали ностальгии. Мы легко переносили боль разлуки с домом, но не с кафаной и белградскими улицами. Каждый из нас хотел появиться на улице в военном одеянии. У меня тогда был небольшой флирт с барабанщицей из чешского оркестра, который играл в „Коларце“, и я представлял себе, как импонировало бы этой маленькой толстенькой барабанщице братской славянской народности, если бы я появился в мундире сербского солдата…».
Но в город новобранцев стали пускать не раньше, чем капрал Люба обучил их строевому шагу и умению отдавать честь. После принятия присяги стали увольнять в город. Однажды Нушич засиделся в «Коларце» и не поспел вовремя в казарму. Пришлось с товарищем пролезать «в какую-то дыру в крепостной стене за башней Нейбоши…».
Строевые и прочие занятия проводились каждодневно в широком рву на Калемегдане, под самыми стенами крепости. Капрал Люба упорно добивался единообразия, необходимым условием которого было искоренение дурной привычки… думать.
— Солдату думать не положено! — объяснял капрал. — Что бы делал господин майор, если бы мы все думали?! Солдат должен слушать и исполнять, а не думать!
«Как только ты надел форму и перестал думать, ты уже не человек, а солдат, тебя ставят в строй и прежде всего учат равняться. Цель равнения, которому в армии уделяется особое внимание, состоит в том, чтобы всех подравнять по ниточке и приучить не вылезать вперед. Воинские начальники тратят очень много сил времени на привитие этих полезных навыков, так что в конце концов стремление к равнению входит в привычку. Но все же, стоит только человеку расстаться с армией, как он сразу же утрачивает эту замечательную привычку. Вероятно, это происходит потому, что в жизни гораздо больше ценится стремление вылезти вперед».
Капрал Люба был философ.
— Солдат состоит из теории и практики, — говорил он.
Он научил новобранцев стрелять из винтовки, разъяснил, что такое государство и что такое скребница…
Видимо, Нушич был неплохим солдатом, потому что вскоре его самого произвели в капралы. Событие, послужившее причиной такого возвышения, никого не порадовало. Военному сбору пора было уже кончиться, но распустить студентов и не подумали, а в сентябре военный министр приказал призвать даже тех, кто вообще отслужил свой срок. Занятия в Великой школе так и не начались.
Началась война…
6 сентября 1885 года гарнизон города Филипполя (ныне Пловдив) восстал против власти султана, а 8 сентября болгарский князь Александр I Баттенберг присоединил Восточную Румелию, объявив себя князем Северной и Южной Болгарии. Население страны увеличилось на восемьсот тысяч человек. Это считалось нарушением Берлинского договора.
Король Милан покинул венские кабаки, срочно прибыл в Белград и в тот же день объявил чрезвычайное положение. Подстрекаемый Австрией, он заявлял, что нарушено «политическое равновесие» на Балканах. Царское правительство повелело вернуться в Россию всем русским офицерам и унтер-офицерам, обучавшим болгарскую армию. А турки и не думали наказывать своего непокорного вассала, собираясь таскать каштаны из огня руками сербов.
И сербский король двинул свои войска к восточной границе.
Бранислава отпустили попрощаться с родными. Всюду на улицах он видел возбужденных людей, обсуждавших тревожную весть. Знакомые останавливали его, и каждый говорил о своих делах, но всем эта война была непонятна и не нужна.
Прощание было тягостным. На рассвете ранец на плечи — и в дорогу, на фронт.
Мать крестится, бросая взгляды на икону.
— Господи! Возложи грехи на нас, стариков! Господи, прости детей!
Она поднимается, зажигает лампадку и опять крестится на икону святого Георгия, покровителя дома Нушей.
«Посреди нашей низкой комнатки стоит маленький стол. Мерцает пламя свечи, и тени сидящих за столом пляшут по стенам. На столе очищенные яблоки, печеные каштаны и другие лакомства, — все, все, что я люблю, — как будто я могу съесть это сразу. Во главе стола — отец. Седой, нахмуренный, он молча барабанит пальцами по табакерке и что-то вычерчивает на ней ногтем. Около него — мать. Она угощает меня то тем, то другим; голос ее дрожит, и она старается сдержаться, чтобы глаза и рот не выдали ее чувств. Тут же сидит сестра, глаза ее полны слез. Рядом с ней младший брат, веселый и любопытный мальчуган. В то время как старшие сосредоточенно молчат или говорят о вещах, не имеющих отношения ни ко мне, ни к моему отъезду, ему не терпится расспросить о самом страшном.
— А что, на войне каждый должен погибнуть, да? А как вы стреляете? Лежа? А правда, что убитых хоронят с почестями?
Напрасно его одергивают, просят помолчать, напрасно пытаются отвлечь разговорами на другую тему, он, не получив ответа на свои вопросы, повторяет их снова и снова.
Но страшнее всего, когда все вдруг замолкают. По пяти минут длится жуткая тишина, нарушаемая лишь частым, прерывистым дыханием матери. Отец торопливо затягивается и пускает дым; мать делает вид, что увлечена каким-то делом: чистит яблоко или снимает нагар со свечи; часы в соседней комнате размеренно отсчитывают время; на озабоченных лицах играют бледно-желтые отблески пламени; на стенах вздрагивают неясные тени. Иногда вдруг на оконной занавеске мелькнет какая-то тень, и у самого дома послышатся тяжелые шаги прохожего.
Странно, что при таких обстоятельствах никому не удается найти тему для беседы. Разговаривают сердца и души, а когда разговаривают они — нужна тишина.
— Ты будешь нам писать? — спрашивает сестра и берет мою руку.
— Буду! Конечно, буду!
— Пиши! — поддерживает ее маленький братишка. — Пиши! Если кого-нибудь убьют, ты обязательно сообщи…
Чем дальше по кругу двигалась стрелка часов, тем заметнее менялись лица моих родных. Мать не сводила с меня мокрых от слез глаз и никак не могла насмотреться. Мне становилось не по себе от этого пристального взгляда, постоянно обращенного в мою сторону.
Надо было прилечь, хотя бы на часок. Когда я проснулся, на улице еще стояла темная ночь. На столе догорала свеча, а за столом сидел отец, так и не вставший с места. Перед ним возвышалась гора окурков и пепла. Дым, заполнивший комнатку, колыхался в воздухе, словно облако.
Утренняя заря теснила ночь, пламя свечи становилось все бледнее и бледнее. Между занавесками с улицы пробился тонкий луч света; лампадка под иконой начала потрескивать, и в нее подлили масла…
Когда настало время уходить, у отца вдруг задрожал подбородок. Он хотел мне что-то сказать, но не смог. Я почувствовал, как он прикоснулся холодными губами к моему лбу, к щекам… Это как первый укол ножа, когда его вонзают в тело: сначала больно, а потом режь сколько хочешь…