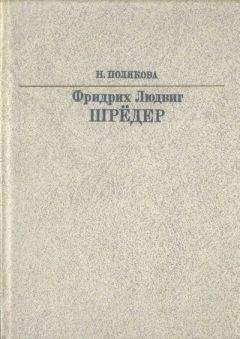В 1766 году Лёвен опубликовал свои «Дружеские воспоминания о труппе Коха в связи с „Отцом семейства“ господина Дидро». В них есть важные строки, посвященные насущной потребности Германии — обрести наконец национальное искусство сцены. Каждому народу, говорит Лёвен, свойственно своеобразие, его внутренний мир и внешний облик, складывавшиеся издавна, неповторимы, они определяют черты нации. Их надо беречь, развивать, а не подтачивать внедрением чужеродного быта и нравов, заимствованных у иноземцев. Увиденное на сцене подчас становится образцом, вторгается в жизнь, меняет психологию людей. Иностранные пьесы, наводнившие германские подмостки, прививают немцам и образ мышления и поведение совсем им не свойственные. Трудно даже представить себе, какое большое влияние оказывает театр на нравы, сколь велика в этом роль иностранных актеров. Их искусство, более блестящее и впечатляющее, восхищает, ему начинают подражать. Но было бы несравненно лучше создать свое, национальное искусство, а не следовать чужому. Англия, Испания, Италия и Франция счастливее — там есть сложившийся театр. И только мы, бедные немцы, с грустью заключал Лёвен, давно хвораем и никак не можем подняться на ноги.
Сетуя на тяжелое положение германской сцены, Лёвен прекрасно понимал, что неблагоприятная для искусства среда изменится не скоро. Понадобятся долгие годы, прежде чем наметятся сдвиги. Единственную возможность ускорить развитие национального искусства Лёвен видел в основании театра, который будет открыт на новых началах, в вольном городе, на средства друзей сцены. И Гамбург, по его мысли, был самым подходящим для того местом.
Лёвен полностью принял путь, намеченный Шлегелем, ратовавшим за стабильный, стационарный театр. Зная, как при существующем порядке театрального дела убытки и прибыль неизбежно сказываются на сценическом искусстве, Шлегель выступил против бытовавшей тогда системы принципалитета — организации трупп странствующих актеров, при которой главой коллектива становился один из актеров, бравший на себя художественное руководство и административные хлопоты. Являясь, по существу, хозяином труппы, принципал стремился извлечь наибольшие доходы. Для этого он не только предельно сокращал издержки на оформление спектаклей, костюмы, аренду помещения и прочее, но экономил буквально на всем, в том числе и на жалованье актеров. Доходным либо убыточным мог быть и репертуар. Прибыль давали спектакли развлекательные, ставившиеся на потребу невзыскательной, самой многочисленной публике. Серьезная, литературно полноценная драматургия встречала куда меньший интерес зрителей. Поэтому, желая иметь большую прибыль, принципал поступался художественными и, следовательно, просветительными возможностями театра.
Стремление передовой части немецкого общества видеть на сцене не забавные ремесленные поделки, а достойные литературные произведения отечественных авторов было вызвано живейшей необходимостью, которую остро ощущали лучшие силы нации. Тяжелый политический гнет, царивший в стране, не давал возможности практического переустройства социальных условий. Поэтому передовые представители немецкого народа единственный выход своей творческой энергии находили в духовной, идеологической деятельности. В результате XVIII век стал славен большими достижениями немецкой философии, литературы и театра.
Общественное развитие страны той поры многим обязано отечественной литературе, сыгравшей исключительную роль в формировании национального сознания народа. Характерно большое место, которое заняла в ней драматургия. Писатели не случайно видели в театре кафедру, способную приобщить к социальной жизни значительные круги общества. Они хорошо понимали, что в стране, где подавляющее большинство населения неграмотно, театр становился едва ли не единственной возможностью образовать и воспитать широкие массы, источником, благодаря которому просветительская идеология постепенно овладевала бы их сознанием.
Выступив с идеей основания национального театра в Гамбурге, Лёвен брал за образец опыт Шлегеля, стремясь «не допустить, чтобы прибыль и убытки отражались на игре актеров». Материальные и организационные заботы о будущем театра решено было вверить не принципалу. Их взяли на себя двенадцать гамбургских купцов. Благодаря средствам, вложенным ими в новое театральное дело, Гамбургский национальный театр сразу получил хорошие возможности. Трое из этих двенадцати бюргеров — купцы Зейлер, Тиллеман и Бубберс, сам в прошлом актер труппы Шёнемана, — составили своеобразный совет, решавший все хозяйственные вопросы театра. Особую заинтересованность в новом начинании проявил Зейлер — позднее муж первой актрисы Гамбургского национального театра Софи Фридерики Гензель.
Героини Гензель и внешне и внутренне выглядели внушительно. Тирады, скованные четким размером александрийского стиха, артистка произносила звучным, сочным голосом. Ее аристократические персонажи наделены были подчеркнуто театральным «живописным» жестом. Самое главное достоинство актрисы Лессинг видел в необыкновенно верной декламации. «У нее, — утверждал он, — едва ли вырвется фальшивый тон. Она умеет произносить самые запутанные, самые шероховатые и туманные стихи так легко и с такой отчетливостью, что благодаря ее дикции они становятся вполне понятными и эта дикция служит лучшим комментарием к ним. С этим, — продолжал Лессинг, — соединяется у нее такая тонкость интонации, которая свидетельствует или об ее очень счастливой восприимчивости, или об очень верном понимании положения».
Эта, по мнению Лессинга, «бесспорно одна из лучших актрис, какая когда-либо была на немецком театре», ревниво и нетерпимо относилась к успехам ведущих артисток труппы Аккермана, в которую вступила в 1757 году. Будучи трагической героиней, премьерша, обладавшая отличной внешностью и сильным голосом, стремилась, однако, захватить роли самых разных амплуа, хотя возможности ее тогда представали не в лучшем свете.
Гензель не терпела ни критики, ни конкуренции и круто обходилась с теми, чья возрастающая популярность могла хоть на мгновение сделать менее заметным ореол ее славы. Поэтому нелегко приходилось ведущим актрисам труппы Аккермана, особенно если принадлежность к тому же, что и у Гензель, амплуа сталкивала их с властной примадонной.
Своей главной соперницей Гензель считала Каролину Шульце, артистку на роли героинь, появившуюся у Аккермана еще в Швейцарии, во время гастролей в Цурцахе. Невысокая, изящная, Шульце была жизнерадостной и подвижной. Красивые черные глаза, темные волосы, исключительное обаяние делали ее очень привлекательной. Речь и движения актрисы подчас казались несколько резкими, но это искупалось прелестью юности.
Шульце была моложе Гензель. Она прекрасно танцевала и вместе со своим братом много выступала в балетах и дивертисментах, которые регулярно показывал Аккерман. Одаренная дочь актера, Шульце выросла на подмостках и, по собственному признанию, своим театральным образованием была обязана только самой себе, своему усердию, своим размышлениям и правилам своего отца. Если бы кто-то при царящих тогда театральных порядках и захотел научить ее актерскому искусству, говорила Каролина, то «зависть и недоброжелательство помешало бы ему. Я не думаю, — продолжала она, — чтобы была до меня или что после меня появится актриса, которая претерпела бы больше преследований, чем испытала я». Много лет спустя вспоминая давно прошедшие дни, она писала: «Я сама признаюсь себе: это чудо, что я стала тем, чем я была. К счастью для меня, я обладала веселым нравом. Если бы я хоть немного была склонна к меланхолии, то это внушило бы мне робость».
Действительно, о страхе перед признанной премьершей не было и речи. Шульце прекрасно знала о своих достоинствах. Успех у публики сопутствовал ей с юности, когда она выступала в труппе Коха, на сцене вновь отстроенного лейпцигского театра. Кем только не приходилось ей представать на его подмостках! Героиней — в трагедии, субреткой — в комедии, примой — в балете. Стоило студентам узнать, что вечером играет Каролина, — и молодых людей словно магнитом толпами тянуло в театр.
Особенный восторг вызывала ее трепетная героиня в трагедии Вейссе «Ромео и Юлия». Иоганн Вольфганг Гете, который, как и его коллеги-студенты, посещал спектакли с участием Шульце, долгие годы помнил ее пленительную Юлию. Пройдет почти полвека, но Гёте словно о недавно минувшем поведает о волнении, которое охватывало зал от ее игры, особенно в сцене, когда Юлия, в белом атласном платье, вставала из гроба и произносила монолог, полный огромной драматической силы. Когда же девушка решительным жестом отстраняла гадюк, которые, как ей чудилось, окружали ее, зал оглашался дружными рукоплесканиями.
Перейдя в антрепризу Аккермана, Шульце играла Ифигению, Химену и других героинь трагедии, танцевала в балетах и дивертисментах, которые ставили ее брат и главный хореограф труппы, Куриони, выступала в завершавших вечер комедийных пьесках. Шумное одобрение публики не кружило ей голову; универсальность же дарования заставляла трудиться еще больше.