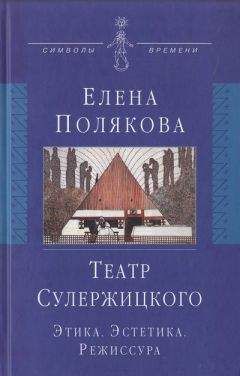Приоткрывая двери для возможных переговоров, он осторожно высказывает предположение, что «к Парижу Чехова теперь привязывают не столько заботы о себе самом, сколько о собранной им труппе, которую называет своей семьей». И тут же Рейнхардт самым пессимистическим образом оценивает шансы этой семьи на успех. Русской театральной публики в Париже, мол, недостаточно. А французы? Они, понятно, еще меньше станут интересоваться ее спектаклями. Язык-то, как ни говорите, чужой ведь.
Все это было, в общем, верно. Михаил Александрович и сам в том убедился. И все же возвращаться к Максу Рейнхардту не было никакого желания.
Рахманинов
Летом тысяча девятьсот тридцать первого года Михаил Чехов отдыхает около Рамбулье, под Парижем, в имении Клерфонтэн, у Сергея Рахманинова.
Впервые в жизни он увидел Сергея Васильевича вскоре после своего вступления в труппу Московского Художественного театра. Был пятнадцатилетний юбилей МХТ. Праздничный, торжественный спектакль. На сцене оркестр, ожидающий дирижера. Выходит Рахманинов. Спокойный, серьезный. Медленно, под гром рукоплесканий идет к дирижерскому пульту. Искоса смотрит на публику. Ждет. Зал затихает. Рахманинов начал марш Ильи Саца к «Синей птице». И здесь, следя за ним, отдавшись его магической силе, Михаил Чехов, по собственному определению, человек немузыкальный, «понял что-то о музыке и о творчестве вообще». Что это было, Михаил Александрович не мог определить. Но «оно» на всю жизнь осталось в его подсознании. И с тех пор он всегда замечал, что в лучшие его минуты на сцене это «что-то» пробуждалось в нем и вело, направляя и вдохновляя в игре.
Позднее они познакомились ближе, и Михаил Чехов очень привязался к Рахманинову. Полюбил его не только как художника, но и как человека.
Был Сергей Васильевич большой, пропорционально сложенный, широкоплечий и, как бывает у людей высокого роста, немного сутулый. Стрижен коротко, «под арестанта», — шутил Шаляпин. И это подчеркивало его монгольского типа череп, скулы и крупные уши. Глаза проницательные, мудрые. Мало кому из писавших портреты Рахманинова удавалось вполне передать глубокую, сосредоточенную значительность его лица, столь необычным оно было. Но даже тот, кто встречался с Сергеем Васильевичем впервые, уже по его лицу понимал: это большой человек.
Еще в дни молодости Рахманинова понял это Антон Павлович Чехов. Увидел он его в концерте, где Сергей Васильевич аккомпанировал Шаляпину. После их выступления, в артистической, восторженная толпа окружила певца. На Рахманинова никто внимания не Обращает. Пришел за кулисы и Антон Павлович. Отыскав глазами Рахманинова, о котором он в ту пору еще нечего не знал, направился к нему.
— Я все время смотрел на вас, молодой человек, — сказал он. — У вас замечательное лицо. Вы будете болщйим человеком.
Много лет спустя, в другом конце света, на этот раз уже не великий писатель, а простой лавочник, у которого Сергей Васильевич покупал разные мелочи, сказал иначе:
— Если бы я не знал, кто такой мистер Рахманинов, то, глядя на его лицо, все равно бы понял: это большой человек.
Однако этот действительно большой человек, композитор и пианист, которым восхищался мир, был на редкость скромен, боялся незнакомых ему людей и потому был сдержан, как бы «застегнут на все пуговицы». Даже будучи уже всеми признанным, всеми почитаемым, он выходил на эстраду, не глядя в публику, очень замкнутый. Один, два суховатых поклона, и Рахманинов садится за рояль. Терпеливо ждет, пока утихнет аудитория. Потом, не вставая, еще раз кивнет в зал и положит руки на клавиши.
Тем, кто не знал его близко, казалось, что все это от гордости, мрачности, неприступности, которую он на себя напускал. Создать репутацию «угрюмца», «нелюдима» помогли ему газетные репортеры, особенно зарубежные. К журналистам он, вообще говоря, относился, как к неизбежному злу, с которым, однако, надо мириться. Но развязности, «нахрапа» не выносил. Когда один из них, ворвавшись как-то в артистическую, спросил, что он сейчас пишет, Рахманинов решительно и быстро ответил: «В настоящее время каждый день пишу письма дочери и внучке». Газетчик не замедлил ретироваться.
Другой попросил разрешения сделать несколько снимков.
— Начнем с того, — предложил он, — что сфотографируем, как вы утром бреетесь.
— Но позвольте, — возразил Рахманинов, — я ведь музыкант.
— Ну и что? — не растерялся репортер. — Вот одного сенатора я «засек», когда он сорочку с себя снимал.
— Сенатор более важное лицо, чем я, — сказал Сергей Васильевич и прервал встречу.
Или вот еще. Газетчик-американец, беседуя с ним, задал вопрос:
— Кто оркеструет ваши сочинения, господин Рахманинов?
На это Сергей Васильевич преспокойно и с самым серьезным видом ответил:
— Видите ли, вы в Америке люди богатые, и потому композиторы могут заказывать другим свои оркестровки. Мы же в Европе люди бедные и вынуждены заниматься оркестровкой сами...
Он был очень пунктуален. В день своего выступления приезжал в концертный зал за полчаса до начала и нервничал, если концерт почему-либо задерживался. Каждые полминуты смотрел на часы. А тут как-то корреспондент попросил уделить ему «две минуты, не больше». Сергей Васильевич принял его, положил часы на стол и через две минуты решительно поднялся, давая понять, что свидание окончено. Газетчик, по-видимому, обиделся и поведал об этом миру.
Так постепенно создавалась легенда о неприступности и мрачности Рахманинова. На самом деле он просто ненавидел рекламу и все с ней связанное.
На эстраде и в артистической в присутствии посетителей он казался всегда озабоченным. Это было следствием его застенчивости. Но в интимном кругу, среди семьи и друзей, мог этот «угрюмец» вопреки сложившемуся о нем мнению быть веселым, жизнерадостным. Мог отдаваться самому беззаботному смеху, когда веселились другие. Любил, чтобы в часы отдыха дом его был полон гостей. Когда затевались танцы, он часто сам садился за рояль и играл что бы кто ни попросил. Играл и радовался, глядя на танцующих.
И чего только ни выдумывали здесь, когда собирались гости! Устраивали кабаре и спектакли с куплетами. С помощью небольшого «кодака» снимали киноленты. Сюжеты выбирали обычно наивные, но смешные, веселые. Потом фильм «всенародно» показывали. Большой успех имели «Шишиги» — «кинокартина из жизни фантастических существ, обитающих в лесах и лишенных осязания». В качестве героев этой ленты снимались сыновья Шаляпина — Борис и Федор, частые гости в доме Рахманиновых. Сергей Васильевич любил показывать «Шишиги» всем приходившим к нему друзьям и каждый раз веселился при этом, как в первый раз.
А то сядет за рояль и начнет «отжаривать» с Натальей Александровной 8 польку в четыре руки или аккомпанировать Борису Шаляпину, истошным голосом поющему частушки. И как он смущался, если Борис вдруг скажет: «Нет, Сергей Васильевич, вы не так играете. Тут надо, чтобы как гармошка». И когда Борис показывал, как же это должно быть, Рахманинов послушно старался в точности исполнить.
И еще умел этот мнимый «сухарь» и «нелюдим» создавать музыку, полную теплоты и глубокой душевности. А на концертной эстраде, уходя в себя и забывая весь мир, он покорял массы силой своего мастерства.
Мог встать вопрос: «Где же он настоящий?» Ответ один, утверждают те, кто близко знал его. Настоящим он был во всех этих столь различных проявлениях, ибо одна из самых замечательных и даже, быть может, основная черта натуры Рахманинова — его искренность. Поэтому он всегда и во всем оставался самим собой. Очень скромный в своей личной жизни, он любил повторять слова Сократа: «Сколько есть в этом мире вещей, которые мне совершенно не нужны».
Наблюдая Сергея Васильевича в жизни, Михаил Чехов, как он сам говорит, понял, что такое истинная простота и неподдельная скромность у большого человека. В мелочах, в еле заметных оттенках речи, в мимолетных поступках Сергея Васильевича, видел он, сквозили эти качества с врожденной правдивостью.
Вот он, например, в обществе, как бы мало или велико оно ни было. Вы никогда не увидите его сидящим на центральном месте. Но вы не увидите его и в «уголке», где скромность, пожалуй, чуть-чуть подозрительна.
Он — как все. Все толпятся — и он среди них. Надо стоять — стоит. Сесть — сидит. Конечно, он в центре всегда. Но «центр» этот в душах людей, его окружающих.
Беседуя с кем-нибудь, он слушает то, что ему говорят, со вниманием. И не перебьет собеседника, если слушать приходится даже абсурдное мнение. Иногда на неумное слово, когда все другие смущаются, даст серьезный ответ, и неумное слово тотчас забывается. В обхождении не делает разницы между «большим» и «малым», с каждым одинаково скромен, прост и внимателен. Неловкостей, нередко случающихся в его окружении, умел не замечать незаметно.